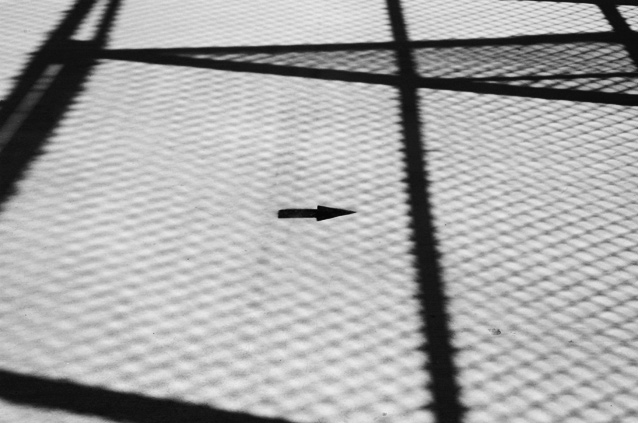Ольга Михайлова: Уравнение. Пьеса о президенте и заключенном
Вся история придумана.
Все персонажи вымышлены.
Ничего этого не было. Или уже?
«Гамлет
Чем прогневили вы эту свою Фортуну,
что она шлет вас сюда, в тюрьму?
Гильденстерн
В тюрьму, принц?
Гамлет
Да, конечно. Дания – тюрьма.
Розенкранц
Тогда весь мир – тюрьма.
Гамлет
И притом образцовая, со множеством
арестантских, темниц и подземелий, из
которых Дания – наихудшая.
Розенкранц
Мы не согласны, принц.
Гамлет
Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами
по себе вещи не бывают ни хорошими,
ни дурными, а только в нашей оценке.
Для меня она тюрьма».
Вильям Шекспир. «Гамлет»
Две уборщицы домывают длинный тюремный коридор. В самом конце, в нише – раковина, над ней крючконосый кран с холодной водой. Добравшись туда, уборщицы поочередно с громким плеском выливают грязную воду, споласкивают ведра и тряпки. Сквозь шум льющейся воды и грохот ведер пробивается стук швейной машинки. Уборщицы уходят, их шаги стихают за поворотом коридора, и звук машинки становится громче и громче.
1.
В одной из камер мужчина лет пятидесяти с застывшим лицом строчит на швейной машинке. Отработанным механическим движением он берет заготовку рукавицы из стопки слева, ловко прострачивает по краю и откладывает в растущую стопку справа. Мужчина не смотрит ни на рукавицы, ни на машинку. Взгляд его устремлен прямо перед собой на стену, время от времени он даже на несколько секунд закрывает глаза. Вот новая рукавица ложится в правую стопку готовой продукции, но неожиданно она беззвучно распадается на две половины, которые соскальзывают одна за другой на бетонный пол. Краем глаза мужчина замечает это движение и останавливает швейную машинку. Стрекот прекращается, наступает тишина. Мужчина нагибается, поднимает несшитые половинки, откладывает их в левую стопку заготовок. Он снимает пустую катушку, заменяет ее новой и пытается вставить нитку в иголку. С первого раза него не получается. Он пробует снова и снова, руки у него начинают трястись, и он отдергивает их от швейной машинки, как будто она горячая, и роняет враз потяжелевшие, неуклюжие кисти на колени. Посидев так несколько секунд, мужчина глубоко вздыхает и начинает говорить, обращаясь то ли к своим рукам, то ли к швейной машинке.
– Я делал это тысячи раз. Я прекрасно вижу ушко. Тут нет ничего трудного.
И действительно, после этого простого заклинания нитка легко входит в ушко иголки, заготовка ложится под железную лапку, которая аккуратно прижимает ее, и стрекот машинки возобновляется, а мужчина продолжает говорить, перекрывая шум:
– Я – швея-мотористка. Я – швея-мотористка. Отлично строчу, получил свидетельство.
Он вдруг прекращает строчить.
– Господи! Десять лет! Лучшие годы, самые, самые… Стоп.
Мужчина снова принимается строчить, уговаривая сам себя:
– Я – швея-мотористка. Я строчу рукавицы. Я выполняю план. Мне свидание с женой дадут.
Он бросает строчить, и в наступившей тишине его голос звучит чересчур громко:
– Дети без меня выросли! Жена всю молодость растратила! Прекрати. Ты – швея-мотористка и точка. Какая, к черту, у швеи может быть жена?!
Как будто испугавшись звука собственного голоса, он склоняется над машинкой и начинает работать еще старательнее. Стопка слева уменьшается. Стопка справа растет.
– Я жду свидания с женой. Мне дадут свидание с женой. Мне обещали свидание с женой. Мне положено свидание с женой.
2.
И тут в двери камеры со скрежетом поворачивается ключ. Зато сама дверь открывается бесшумно. На пороге возникает человеческая фигура. Узник вскакивает, мгновенно забыв про свое шитье, швейная машинка затыкается, и в тишине узник делает один неуверенный шаг навстречу гостю и останавливается. Узника душат разом страх и надежда, поэтому голос сначала его не слушается.
– Это… это ты? Уже? Неужели, разрешили?
Не отвечая, человек в дверях тоже делает шаг, и становится понятно, что это мужчина с чемоданчиком в руке. Лица его против света не видно. Узник замирает, и снова в камере тишина. Прерывает ее опомнившийся узник.
– Мужчина, вы кто?
– Гость. У вас же юбилей, вот я и решил зайти.
– Я жену ждал. Мне свидание обещали.
– Ну, что жена. Жена сегодня одна, завтра другая. А тут я.
Мужчина выходит на свет, и узник, наконец, видит его лицо и от удивления даже отшатывается.
– Вы?!
– Ubberaschung. Или, по-вашему, сюрприз!
– Вы здесь?
– Не ожидали? А я вот он. Для меня расстояние – не преграда. Дай, думаю, навещу. Мой стиль.
– Сказали, свидания по правилам только родственникам…
По голосу узника понятно, что он растерян и ошарашен.
– Да о чем речь? Спросите любого в стране: родственники к вам в гости припрутся или я – кого выберут?
Узник молчит, не зная, что сказать, чтобы не обидеть.
– Или, думаете, могли мне отказать?
– Ничего не понимаю. Я – швея-мотористка, а тут – вы.
– Отлично! Первое лицо и не должно быть понятным. Ошеломлять – мой стиль.
– У вас получилось – ошеломили.
– Кто бы сомневался. Ну, рассказывайте, как сидится?
Узник уже немного пришел в себя и отвечает уклончиво.
– Да, в общем неплохо. Только вот по правилам жена должна была… Другие лица не допускаются.
– Не смешите… Правила пишутся, знаете, для кого?.. Кто меня может не пустить?
– Значит, жену не пустят?
– Вот ведь вы какой! Негостеприимный. А у нас в церкви говорят: принимайте всех, ибо, может быть, вы ангелов принимаете.
– Разве вы – ангел?
– А что, не похож? Да вы, наверное, вольтерьянец?
– Почему?
– Здесь, в тюрьме, все вольтерьянцы. Ну, рассказывайте: как сидится? Какие претензии?
Узник в тюрьме давно и знает, как отвечать на такой вопрос.
– Претензий нет.
– Во как! А кое-кто за вас обижается. Разъясните для них свою пользу.
– Пользу? Пользу от многолетнего заключения в тюрьме?
Узник с изумлением смотрит на гостя, а потом, вместо того чтобы обидеться на издевательское предложение, оживляется.
– А знаете, как ни странно, есть польза: я тут впервые в жизни стал много читать, спасибо вам за это.
– Пожалуйста. У нас ведь тюремные библиотеки теперь отдельной строкой бюджета идут. И что же вы вычитали?
– Что человек есть субстанция сущего, и в качестве субъекта этого сущего – ценен в своей экзистенции.
Гость уважительно молчит, переваривая услышанное.
– Хорошо. Надо будет где-нибудь ввернуть. Но вообще, вы меня словами не напугаете. Я теперь ничего не боюсь.
– Это еще почему?
– А я тоже одну книжку читал. Там сказано, что история кончилась. А значит, нынешняя система простоит вечно, и бояться мне нечего. У нас теперь будет вечная демократия.
– Без гуманизма.
Разговор на общегуманитарные темы придает узнику смелости, да и кажется вполне безобидным для начала.
– Почему без гуманизма? Обижаете.
– Потому что гуманизм рассматривает человека как цель, а демократия – как средство.
– Ну, и что? Демократия – это средство управлять людьми.
– А гуманизм утверждает, что человеком управлять нельзя.
– Еще как можно. Управляли, управляем и будем управлять. До конца истории вон за руку довели.
– История кончается тогда, когда кончается любовь.
– Или когда герои переженились.
Гость смеется. Узник смех не поддерживает, смотрит серьезно и тревожно. И гость резко обрывает смех.
– А я вот развелся. Слышали?
– Нет.
– Оторвались вы тут от жизни. А знаете, почему я именно сейчас развелся?
– Чтобы приехать ко мне свободным от личных обязательств?
– Это вы шутите или на что намекаете? И то и другое преждевременно. Поясняю, чтобы не было двусмысленности. Я развелся, потому что у меня теща умерла. Норбертовна. Так я ее звал. Вообще-то она Ирена Норбертовна. Из прибалтиек по национальности.
– Вы так любили тещу, что не смогли без нее жить с женой?
– Нет, ты, правда, тупой, поэтому и в тюрьме. Зря я к тебе пришел.
– Не понял связи?
– Чего тут не понимать? Норбертовна страшная была женщина. Узнала бы про развод, съела бы меня без соли.
– Ну, до вас довольно трудно добраться с ножом и вилкой.
– Это кому как. Норбертовну никакая охрана бы не остановила.
– Да, нельзя остановить того, кто сам не останавливается.
– А если убить?
В вопросе гостя звучит живой интерес.
– Убить движение? Как вы себе это представляете?
– Никак. Это я пошутил. А как у вас дела семейные? Жена-то ждет? Вы не поверите, но жена может изгадить половину жизни.
– «Где найти добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Она добывает шерсть и лен и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой».
– Это что-то очень еврейское.
– Ну, да. Притчи.
– Умеют евреи устраиваться, чтобы жена все в клюве принесла и в рот положила. А у нас либо хабалка скандальная, либо плакса, мандолина, пидераска.
Последние слова гость произносит с сильным чувством, так что даже стукает кулаком по швейной машинке, отчего та испуганно лязгает иголкой.
– А вы, похоже, из тех мужчин, которые говорят жене: я лягу посередине кровати, а ты выбирай любую сторону.
– Откуда знаешь?– искренне удивляется гость.
– Ничего я не знаю и знать не хочу.
Почувствовав, что слова его прозвучали излишне резко и даже, учитывая обстоятельства – кто он, а кто гость, – грубо, узник прерывает возникшее угрожающее молчание.
– Может, кроме античных авторов.
Но гость тему не поддерживает и смотрит угрюмо. Не желая продолжать такой чреватый обидами разговор о личной жизни, узник, не зная, что еще сказать, берет книжку из небольшой стопки, листает ее, находит нужную страницу, читает:
– «… все мы дышим о разном;
… на каждом доли его ярмо,
И над каждым, с бичом, – собственная его судьба».
– Гомер?– наконец подает голос гость.
– Пиндар. «Немейская ода».
– Ах, Пиндар… Значит, верите в судьбу?
Теперь молчит узник: как правильно отвечать начальству на вопрос о судьбе, чтобы себе не навредить и случаем не попасть в карцер, он не знает. Гость понимающе кивает.
– Верите, не отпирайтесь. Только что это за штука – судьба?
– Противоположность слепого случая.
– А вот, кстати, был у вас один случай на зоне,– оживляется гость. – Не удивляйтесь, я все про вас знаю, я, прежде чем сюда явиться, долго информацию собирал. Так вот случай. Парнишка один сидел. Толик или Славик. На мелочевке попал. Предложили ему еще и чужое дельце на себя взять. Статья та же, срока не добавит. Посулили за это зону на выбор, а может, даже и УДО. Этот Толик, или Славик, как их там всех зовут, сначала-то согласился, а потом в отказ: не нравится мне это дело (а ему сунули ограбление старушки), позорное оно, не беру на себя. Его в карцер, а он возьми и по животу себе полосни, и кишки к ногам оперов: жрите, мол! Припоминаете?
Узник не отвечает.
– Боитесь про своих говорить? Понимаю вашу позицию. Но не уважаю. Ну, парня того, сами знаете, зашили, жив остался. Однако инвалид. Никакого досрочного освобождения, разумеется. Короче, жизнь он себе укоротил реально. Это судьба такая у него была, или как? А может, судьба-то ему шанс давала – чужое дельце на себя взять, выйти пораньше не инвалидом, а здоровым мужиком, там, глядишь, чего-нибудь у него и наладилось бы.
– А как же самоуважение? – не выдерживает узник. – Некоторые без него жизни не мыслят.
– Все без самоуважения жить не хотят. Только вот за что себя уважать? За глупость, когда кишки наружу, а пользы никому? Или за смекалку, что договориться сумел? Ведь не он, так другой на себя это дело возьмет – ничего от его кишок в мире не изменилось.
– Судьба его изменилась. Да и я людей после того случая больше уважать стал.
– Судьба – это безличная необходимость. Говорят даже, что перед судьбой все равны. А тут сплошной волюнтаризм со стороны этого Толика.
– А может, судьба – это выбор? Вот перед смертью мы все равны. Однако, как мы до нее дойдем, или доползем, и какими в свой последний час будем – тут нам дана свобода выбора.
– А если не так? Если жизненный путь задан нам наперед? А? Если вы, к примеру, в вожаках комсомола по-юношески блистали, а сталь на эту решеточку, что на окошке, как раз тогда и варили?
Узник поворачивается и смотрит в темное окно: решетка почти не видна, но он знает, что она там, крепко сваренная, наглухо заделанная в бетонные стены. Все еще не глядя на гостя, узник спрашивает с надеждой:
– Я сплю? Вы – мой кошмар?
Узник хлопает себя ладонями по щекам, надеясь проснуться.
– Кошмар – это ваша явь. А я – ваша греза золотая.
Узник оборачивается к гостю, разглядывает его с тоской и отвращением.
– Я болен.
– Ни-ни-ни… Вы мне нужны здоровым. А то опять начнется: он его нарочно гриппом заразил, чтобы вызвать осложнения…
– Вы – галлюцинация? – все еще держится за свою гипотезу узник.
– Хотите меня потрогать?
– Нет, – отшатывается от него узник. – Хочу, чтобы вы исчезли.
– Ну, этого не один вы хотите… Однако – вот он я! Прошу любить и жаловать.
– Чем я могу вас пожаловать?
– Свободой.
– Я? Вас?!
Узник от души хохочет, возможно, впервые в своей тюремной жизни.
– Не ржи. Ты мужик или что?
– Вы знаете такую поэтессу Эмили Дикинсон?
– Нет. А надо?
– Вот и я про нее даже не слышал. Мне прислал ее книжку… ну, не важно, кто.
– Как будто я не могу это выяснить…
– Послушайте, что она пишет.
Узник уверенно вытаскивает из той же стопки нетолстую книжку, лохматую от множества торчащих бумажек, которые служат ему закладками, открывает сразу нужную страницу и читает.
– «Мужчины не симулируют судорог
И не прикидываются страдальцами».
Гость презрительно усмехается.
– И это стихи? Баба… Что она понимает? Мужчины делают все, что нужно. И если для дела надо прикидываться страдальцами, прикинутся. Если надо симулировать, будут симулировать. Хоть страдание, хоть оргазм.
3.
Прочитанные вслух стихотворные строчки меняют атмосферу в камере, и теперь узник и гость сидят и беседуют почти как хорошие знакомые.
– Ну, и как вы тут со всеми уживаетесь? – интересуется гость.
– Нормально.
– Я почему-то так и думал. Крепкий человек нигде не пропадет, со всем совладает. Верно, я говорю?
– Вы проверить мою адаптивность пришли?
– В некотором смысле, в некотором смысле... Да вы не обижайтесь. Сидите вы тут… с понтом праведник среди грешников… но ведь этот порядок не мною заведен. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому. Это-то и скверно под солнцем, что одна участь всем. Кто сказал?
– Экклезиаст. Только я себя праведником не считаю.
– И правильно, что не считаете… Праведники, они мало на что в этой жизни годятся. Куда их приспособишь? Экклезиаст, правда, тоже слегка ошибается. Да, праведники да невинные страдают обязательно, без вариантов. Закон жизни. Зайца лиса заест, барана волк загрызет. Даже у ваших евреев Каин невинного Авеля пришиб… Или зарезал? Точно не помню. А вот грешники, как вы да я, чаще всего почему-то преуспевают. Если с головой дружат. Умнее они, чем сыны света. И деньги, и слава, и власть – все им достается. Согласны со мной?
– Удивительно, но плохих людей ни в тюрьме, ни на зоне я не встречал.
– Вот это чудо.
– Сначала я считал чудом, что могу ужиться с другими людьми. А потом то, что другие люди могут ужиться со мной.
– Как там Солженицын писал? «Срок – это условность»?
– Читали?
Вот тут гость откровенно обижается.
– Да вперед вас. Я, между прочим, юрист. А для юриста «Архипелаг» – это пособие по советскому праву.
– И постсоветскому тоже. Будете смеяться, я оказался наивным человеком. Я не сомневался, что прокуратура сможет держать меня в тюрьме, сколько захочет, но я почти до конца не верил, что суд вынесет обвинительный приговор.
– Не верили?.. Любопытно почему?
– Ну как же? На открытом процессе, без доказательств, вопреки очевидным фактам – и обвинительный приговор? Я считал, что суд – это все-таки суд. Он может подыгрывать обвинителям, но не прямо нарушать закон.
– Оказалось, еще как может… Мда… Мы от своих корней не отрекаемся.
– Хороши корни.
– Не надо мыслить примитивно. В каждом факте есть две стороны. Для того, кто дело проиграл, такой суд плох. Для того, кто выиграл, хорош. Диалектика. Это важно понимать. Особенно вам в настоящий момент.
– Вот про момент поподробнее. Что все-таки случилось? Почему вы здесь?
Гость хитро улыбается, и в голосе его звучит неуместная игривость:
– Секрет. Угадайте.
– Мне не до загадок. Не люблю я этого.
– Любите все готовенькое получать. Знаю. В девяностые у вас это здорово получалось. А теперь другой век, другой порядок. Чем люди всю жизнь занимаются? Монетизацией рая. Только у одних это лучше получается, а у других…
– …У других не спросили, чего они хотят.
– Да, все того же, всегда того же они хотят: подарков с неба, чтобы не зарабатывать, а получать. Вы думаете, почему все эти Толики-Славики по зонам болтаются? Воруют, грабят, наркоту сбывают? Это же быстрые деньги – раз-два!– и полон карман бабла.
– А те, на кого ваше «правосудие» чужие преступления повесило? Они за что сидят?
– Так они все равно преступники!
– Все? А вот я во время следствия столкнулся с человеком – он инженером-строителем работал.
– Знаю, знаю… Когда мне рассказали, я до слез смеялся. Директор, значит, в отпуск, зам. заболел, а этого вашего знакомца временно на их место попросили. На пару недель подменить.
– А там вместе с руководством восемь миллионов долларов пропали. Не понимаю, что здесь смешного? Он получил ни за что, ни про что – восемь лет.
– Как это – ни за что?.. За глупость свою получил. И по году за миллион – не так чтобы очень много.
– Он не виноват и денег этих не брал. И что начальство ворует, не знал.
– Он в бессознательном состоянии в компании своей работал или как?.. А человеческое сознание, оно держится больше на подражании, чем на разуме или там интуиции. Все знают, что начальство у нас обязательно ворует, и ты это учти. А не учел – значит, поделом тебе.
– Падающего – толкни?
– Вот вы какой! То-то между нами дружбы не получилось.
– Ну, а вот, а если, по-вашему, что между нами произошло? За что вы так-то на меня смертельно взъелись?
– А не надо было залупаться. Я свое слово держу: сказал, приду на место, никого не трону, и не тронул. А вы развыступались: честный бизнес! Прозрачность! Игра по правилам! Сами-то, безо всяких правил, капиталы в девяностые наживали. А нам, значит, теперь нельзя? Вы уже богатые были, а мы еще бедные. Нам тоже денежек хотелось. Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон.
– А кто забудет – оба.
– Ну, вот опять! Я к вам с дорогой душой, с поздравлениями, с подарками… Любите подарки?
Узник устал от затеянной гостем игры в кошки-мышки и больше не скрывает своего раздражения.
– От вас? Я думал, уже все получил.
– Ну, это вы рано так подумали.
– Пугаете? Зря. Этот метод со мной не работает.
– Знаю. Это я по привычке. Народишко-то по-другому плохо понимает. Но ведь и у вас судьба, можно сказать, решается.
– Все, значит, от вас зависит?
Глаза гостя убегают в сторону, а тон становится казенным.
– У нас централизованная демократия.
– Ну, да. Раньше был демократический централизм, а теперь централизованная демократия. Для одних машин зеленый свет, а другим колеса поотвинчивали.
– Неравенство присуще самой природе вещей. Вот вы встаньте, да не бойтесь, никакой подлянки – вставайте.
Узник поднимается во весь свой приличный рост. Маленький гость становится рядом, чуть возвышаясь лысеющей макушкой над плечом хозяина камеры.
– Видите? И никакая демократия этого не отменит.
– Ну, хорошо, я согласен. Неравенство всегда будет: лентяй работника не переиграет. Но случиться такое должно честно, в рамках закона, а не по произволу, когда дурак умного легко обставит, если у него административный ресурс имеется.
– Ага! Вы в девяностые, значит, забогатели по произволу, а в двадцать первом веке начинаем жить по закону? Тогда деньги верните и начинайте вместе со всеми с нуля.
– При демократии естественно выдвигается элита, у которой больше прав, но больше и обязанностей.
– Правильно! Только вот вы нас в элиту брать не захотели. Ну и пришлось себе местечко расчищать. Я пытался хотя бы неприятности минимизировать. У вас уже были деньги, у меня и моих людей – нет. Я вас не трогал, ведь не трогал же?
– Сначала не трогали.
– Ну вот. Но я дал возможность и другим людям подняться. А вы заладили: честный бизнес! Честный бизнес! Да это вы и есть самый что ни на есть враг демократии.
– Это уже интересно.
– Равные возможности – вот что такое демократия. Нам, как вам. А вы в девяностые нахапали и решили: точка. Больше богатых не надо.
– А может, таких, как у нас, богатых вообще не надо?
– Марксизм – вот основа правильного понимания жизни. Маркс, он что писал? Чем более высока способность господствующего класса ассимилировать лучших людей угнетаемых классов, тем более устойчиво и опасно его правление. А вы удумали ворота перед другими запереть. Пришлось вас в тюрьму подвинуть. Для большей устойчивости системы.
– А не устарел этот ваш марксизм?
– Устарел? Да вы взгляните хоть на нынешнее искусство – они все время какой-то молодняк подгоняют и назначают талантами. И система живет, большие деньги в ней крутятся.
– А вот явится настоящий гений, и всей этой системе современного искусства каюк.
– При налаженной ротации не явится, не допустят. Революция больших ожиданий закончилась. И подвел черту я. Кто мечтал о больших деньгах – получил свои миллионы. Кто грезил о колбасе – получил вдоволь колбасы.
– А кто хотел демократии?
– Демократия – всего лишь способ управления. И он у нас есть.
– У вас лично он точно есть. А у этого самого демоса – нет.
– Значит, правду в народе говорят, что вы левый поворот сделали? Очень странно для миллионера и олигарха. Налево-то зачем?
– А это не миллионер и олигарх левый поворот сделал, а заключенный исправительной колонии.
– Исправились, значит?.. И кто же вы теперь? Либерал или как?
– Нет уж, никак не либерал.
– Это почему же так?
– Да потому что у нас последние двадцать лет все либералы: это выгодно, и модно, и никто над тобой смеяться не будет.
– И чем же плохи либералы? Чем плохо быть модным, да еще и с выгодой? Все ваши друзья и сторонники из них.
– Либералы думают, что здесь Швейцария: каждый сам по себе может жить, и помощь социальная ему не требуется. А я вот тут у одного агронома прочел, что настанет однажды такая зима, что все, что растет в средней полосе, погибнет, кроме елок да осин, так как все наши растения привезены из более благодатных и теплых земель. И какой в такую зиму к черту либерализм?
– Браво!.. Значит, вы за усиление роли государства? Не ошибся я в вас. Умница!
Гость даже руки потирает от удовольствия, будто они выпивать собираются. А узник морщится, словно уже выпил.
– Спасибо. Но не вам меня ценить и хвалить.
– Да я не вас хвалю, а себя за то, что сумел в вас разобраться. Вы – государственник. А я – умница.
– Только я сторонник социального государства, а не мафиозного.
– Ну, это мелкие подробности… А вот кто-то точно сформулировал: чтобы одни жили хорошо, другие должны жить плохо. Иначе как понять, что ты живешь хорошо?
– А я задумался: почему социализм, в основании которого принцип равенства, – это недемократично. А капитализм, основанный на неравенстве богатые-бедные, – это демократия? Ведь демократия, как вы сказали, это в первую очередь равенство?
– Левый поворот, левый поворот! А в свое время призывали голосовать за СПС и «Яблоко».
– Ну и что?
– Как это – ну и что? СПС – правая партия, а «Яблоко» – социалисты.
– Считайте это своего рода шизофренией. Вот одна часть меня жалела о том, что не уехал и в тюрьму загремел, а другая – гордилась. Так и тут. Одна часть – за капитал, частную собственность, в общем, за рынок в современном понимании. А другая – хочет, чтобы и простые люди прилично жили.
– Так не бывает!
– Не бывает. Но мечтать не вредно.
– Очень даже вредно… Был бы у нас на вооружении «мечтоуловитель», издал бы я указ, запрещающий всякие мечтания, вплоть до уголовной ответственности.
– Резонно. Ведь стоит выйти из гонки амбиций, и душа и разум восстают против капиталистической морали, жаждут добра и справедливости.
– Еще скажите: социальной справедливости. Все эти слова утратили свое значение давным-давно.
– Когда слова утрачивают свое значение, народ утрачивает свою свободу.
– Кто сказал?
– Конфуций.
– А-а, китаец… Про китайские слова не знаю, а свободы у них отродясь не было. Знаете, как по-китайски «свобода»?
Узник молчит в ожидании неожиданной информации, которая в тюрьме на вес золота. Вдруг узнать, как по-китайски «свобода». Непрактично, но занимательно. И похвастаться при случае можно. Но гость его разочаровывает.
– Вот и я тоже не знаю. Никто не знает.
– Боюсь, что и по-русски никто не объяснит значение этого слова.
– Потому что… Почему? Никому она не нужна. Спроси любого: чего тебе надо? Скажет: денег хочу, дачу-квартиру хочу. Ну, может, еще жену новую, кому за сорок.
– Люди стремятся к свободе не в смысле избавления от ограничений, а для безопасности индивидуальной жизни. Хотя бы там, у себя дома дышать свободно.
– Вот ведь как тюрьма мозги прочищает. Прямо на глазах люди умнеют, хоть сам садись.
– Милости прошу.
– На мой-то ум, вроде, никто не жаловался…
Тут узник не выдерживает и срывается на крик:
– А на вас вообще кто-нибудь жалуется? И куда прикажете пожаловаться?!
4.
Взяв себя в руки, узник усаживается за швейную машинку и начинает строчить, не глядя на гостя. Гость тоже сидит, наблюдая за спорой работой.
– Я – швея-мотористка, я – швея-мотористка.
– Вот вы какой идейный спорщик, даже про свой... нет, мой, в общем, про подарок забыли.
Узник не реагирует, будто весь поглощен работой.
– Невежливо так вот молчать. Я какой-никакой, а гость. Вы что, и про меня забыли?
– Я не забыл. А просто…
– А просто я вам для поднятия духа новый этот.. на «П», забыл как его… Ну, когда в обе стороны читается… Ну, роза упала на лапу Азора.
– Кто такой этот Азор?
– А-а-а, ты ж из технического вуза, откуда тебе знать. Сейчас, сейчас…
Гость роется в карманах, достает шпаргалку, читает.
– Называется «палиндром». Это когда можно предложение прочесть в обе стороны: слева направо и по-еврейски, справа налево. Очень демократично. Такой тебе подарок. Слушай.
Гость встает и торжественно декламирует.
– «Лазер Боре хер обрезал».
Узник останавливает швейную машинку и поднимает голову, чтобы посмотреть гостю в лицо.
– Борис – это?..
– Нет! Борис – это вообще некий Борис. Собирательный образ. Из палиндрома. Который я лично вам принес на юбилей.
– Это – подарок?
– Не нравится? Смешно же!
– Не нахожу.
– Странно. Обрезание – ваш национальный обычай. Древний. А тут лазером, а? Нет, ну мои шутки народ на пословицы разобрал, а ты морду воротишь. Ладно, это юмор был. Есть у меня в запасе для вас настоящий сюрприз.
– Какой еще сюрприз вы мне можете приготовить? Боюсь, что…
– А вы не бойтесь. Вы ждите хорошего, и оно придет. Но сначала надо поверить, тут наши попы правы. Во что веришь, то и сбудется. Только верить надо сильно, всей душой.
– И во что я, по-вашему, должен верить?
– В то, что срок скостят. Хотя бы. А может, в еще более хорошее.
– Хорошее не имеет сравнительной степени. Если оно, правда, хорошее.
– А как же лучшее?
– Лучшее – это не по отношению к хорошему, а по отношению к плохому. Говорят же: лучшее – враг хорошего.
– Ладно, заканчиваем эту филологию. Скажите честно, чего вам больше всего хочется?
Узник вскакивает с места и отвечает сходу, ни секунды не думая:
– Свободы! Знаете ли вы, что такое десять лет тюрьмы? Не знаете, и знать вам не надо. Никому не надо. Но зато, зато… мысль о свободе пьянит!
– Вот я возьму тебя и выпущу.
– Не надо так шутить.
– Какие шутки по такому судьбоносному вопросу.
– Перестаньте!
– А вот и не перестану. Красиво же выглядит: приехал лично и документик – постановление об освобождении из рук в руки. Гуманно и неожиданно. Мой стиль.
Узник кидается к гостю.
– Где? Где этот документ? Покажите!
Гость одним спокойным жестом поднятой ладони останавливает его.
– Не все так сразу.
– Играете со мной? Зачем вам это?
– В нашей церкви есть отличное выражение: обряд хранит догмат. Вот я всех пересажаю, а тебя вдруг выпущу. Ты выйдешь и скажешь: мол, так и так, сидел, думал и понял, лучше нынешней власти для России ничего не придумаешь. И чтобы стабильность в стране была, власть эта должна быть стабильной. И так каждые десять лет: выпускать одного – и он счастлив, и людям от гуманизма приятно.
– А если я сейчас пообещаю, а потом обману и ничего такого не скажу?
Гость так обижается, что даже отворачивается от узника.
– Ну, уж это будет не по понятиям. Я тебе свободу, ты мне за это должен статейку «Российская стабильность, и президент – гарант ее».
– А спеть-сплясать не надо?
– Что спеть?
– « О главном и милом, родном и любимом».
– Нет, нет, это будет пропаганда гомосексуализма. Снова загремишь от трех до пяти. Президент – это же… Вот в Африке был такой Бокасса, помнишь, про него часто по радио говорили. Наш сосед на даче тогда шавку свою Бокассой назвал. Так этот Бокасса, не собака, а сам президент, он оппозицию вообще ел. И что? Ну, посадили ненадолго. Потом выпустили. Мало ли у кого чего в холодильнике лежит. Президенту можно. А тебя я разве кусал? Всего-то на зону отправил, а крику-то, шуму было. Да у нас каждый десятый в стране или сидит, или только с зоны, и ничего.
– Хорошо, петь не буду.
– Иронизируешь. Неблагодарный вы народ – евреи.
– Тогда почему мне такая милость, если, конечно, вы не шутите?
– Да не шучу я! Народ вы неблагодарный, зато умный. Выгоду свою понимаете, не то что русская шелупонь: во вред себе сделает, чтобы другому нагадить.
– То есть освобождать будете исключительно евреев?
– Не тупи. Каких еще евреев? Освободить я приехал одного тебя.
– Не надо играть такими вещами. Это даже для вас чересчур жестоко.
– Вот уж жестоким я никогда не хотел казаться. Сильным – да. Уверенным в себе – да.
– У вас хоть какие-то убеждения есть?
– Да бросьте вы! Власть важнее убеждений. И вообще, я как народ. Наши русские люди на счет свободы особо не колотятся… Помнишь дневального – как его? – Толика или Славика? Ну, еще одним единственным зубом он щеголял? По УДО вышел, мечтал зубы себе вставить и на работу устроиться.
– Статистика мне известна: пятьдесят процентов вышедших «за забор» заезжает назад.
– Правильно… И Славик ваш – вышел, напился, подрался, отнял мобильный телефон. Я иногда думаю, что телефоны эти специально на зоне придумали, чтобы было что по пьяни отнимать. Денег ни у кого нет, а телефоны, гляди, у всех.
– Зубы он так и не успел вставить.
– Именно… Ему неволя дороже зубов. А вы заладили: «свобода, свобода».
Теперь гость подходит почти вплотную к узнику и с интересом ученого-экспериментатора близко заглядывает ему в глаза.
– Хочется на свободу?
Но узник уже взял себя в руки, и лицо у него совершенно спокойное, а взгляд чуть ли не насмешливый.
– Вы считаете, там, за забором – свобода?
– А по-вашему нет?..
– Свобода – это ставить цели и принимать решения. А у нас все это невозможно.
– Не те вы книжки читали… Вот Пьер Жозеф Прудон писал: «Умножайте связи, и будет вам свобода».
5.
Узник пересчитывает и аккуратно связывает готовую продукцию, не обращая внимания на гостя. А тот снова пытается завязать разговор.
– Мы ведь тут у нас всецело зависим от природы. Не считая нефти, но она тоже от природы. А я зависимости не терплю. Такой вот характер.
– И как же вы с таким характером?
– Плохо. Первым лицом в стране стал, а как шли дела сами собой, так и идут. Ну, где-то как-то вмешаешься, надавишь, прижмешь, но страна огромная, всю не проконтролируешь. Надоело, аж тошнит. Поэтому я нашел себе место, где все, даже природа, будет зависеть от меня.
– Такого места нет.
– Если деньги есть, и место найдется.
– Значит, зависеть будет не от вас, а от ваших денег.
– Это одно и то же. Главное, стабильная власть.
– Мне кажется, это ложный выбор: либо хаос, либо сильная власть. Я стал думать, что люди, если дать им самостоятельность, сумеют сорганизоваться лучше, целесообразнее и уж, конечно, добрее, чем это сделает для них любое начальство.
– Утопист.
– Россия – богатая страна. Деньги…
Но гость не дает ему договорить, выхватывает связанную стопку рукавиц, рвет шпагат и рассыпает тюремную продукцию по полу.
– Деньги – это только символ превосходства! Все вы мните себя самовыдвиженцами. На самом деле вас строго отобрали из толпы жаждущих больших денег по принципу на все готовности. В России таких оказалось не так чтобы очень много. Поэтому у России и нет будущего.
– Как это – нет будущего?
– Люди должны стремиться в будущее, а это значит, рваться к власти, к большим деньгам, хотя бы к собственному ларьку, иначе какое это будущее?.. А у нас кто рвется, знаешь? Русского человека там с фонарем не найдешь.
Взор гостя затуманивается и становится грустным, почти до слезы.
– Может, я последний русский президент на русской земле.
– Не все ставят деньги превыше всего.
– Да, в России и деньги никого не спасут… Тем более они, как безудержный секс, у большинства только в мечтах бывают. И вообще деньги у нас плохо приживаются, потому что русский человек относится к ним с подозрением и брезгливостью: чуть получит – скорее пропить, избавиться от них.
– Много они тех денег получают.
– А вот у вас на зоне был один умелец… Славик или Толик. Хакер-программист. С банковского счета работника силовых структур пол-лимона зелени свистнул. Надеялся, что искать не будут: не с зарплаты силовик такие бабки накопил. А банк возьми и своему уважаемому клиенту деньги верни. Славика-Толика в суд потянули. И получай, милок, восемь лет. Скажи денежкам: прощай! И на этап.
– Да деньги эти – ерунда! Ему уже на зоне новое дело повесили – убийство. Десяток свидетелей подтвердили, что он ни при чем, а его засудили.
– Ну, это не ко мне… Это ist uns uber den Kopf gewachsen – проплывает над нашей головой. А потом, что наши деньги? Мираж. Они из нефти, так? Пшик! – и сгорели. Если, например, не станет нефти? Или просто цены упадут? Что жрать будем? В России толком и не растет ничего. И народишко работать разучился.
– Ну, вы все-таки главный. Принимайте меры.
– Какие меры? Вот хотя бы Чубайс нагадил нам с расформированием единой энергосистемы. Теперь сто хозяев, и все только деньги качают. Не сегодня-завтра накроется все без ремонта, и Россия во мгле. Чубайса, конечно, порвут, но и мне достанется.
– Не понял, при чем Чубайс?
– А есть на земле место, где ни одного Чубайса. Рай. Архипелаг «Земля и Воля».
– Это название?
– Сущность. Мечта каждого русского человека. А у меня уже есть собственный рай – поля, леса, горы. Море теплое, речки полноводные. И все мое, за все сполна заплачено и законным образом оформлено. Паришь на дельтаплане – такая красота! И ни одного русского внизу.
– Думаете, если внизу русские, ничего в жизни изменить нельзя?
– Никогда. Поверьте мне, я сам русский. Знаю, что говорю.
– Но почему?
– А потому что русский народ всегда под смертью жил. Урожай хорошо если раз в три года случается, а зима длинная. Так что он на земле перспективы не видит и зря не колотится. Его будущее – могила. Вот с этой точки он на все и смотрит.
– Да, я заметил, в Европе полно среди эмигрантов простых людей с Украины, из Молдавии. Пытаются как-то устроиться, убежать от нищеты. А русских среди них нет.
– Русские только с умом и образованием уезжают. А народ, он на своем месте помирать привык.
Гость внезапно пригорюнивается.
– Volk. Народ.
– Похоже, проект «Россия» сворачивается.
После такого заявления гость мгновенно весь подбирается и острым взглядом вцепляется в узника.
– А ты откуда знаешь? Или имеешь в виду Америку? Они, правда, хотят нас поработить?
– Не поработить. Таких понятий больше не существует. Ликвидировать.
– В смысле – убить?
– Да нет. Тут на одной утилизации трупов разоришься. Просто сделать нас никакими, или такими, как все. Отнять у нас возможность искать другую дорогу.
– А мне докладывали, что вы – глобалист.
– В принципе, да, я – глобалист. Но при этом хочется, чтобы вокруг было все свое, местное, как в детстве. Чтобы не было на улицах толп гастарбайтеров, не жарили на каждом углу шаурму, а продавали квас и эскимо на палочке. Пусть экономика будет глобальной, а культура – нет.
– Согласен.
Такие родные квас и эскимо смягчают гостя до степени задушевной правды.
– Знаешь, кто будет править последним мировым царством, когда глобалисты окончательно победят?
– Кто?
– Бесочеловек. То есть Антихрист.
– Это уже получается разговор двух старушек.
– Я в одной поездке слышал, старинная русская песня:
«Сойдет на землю бездушный бог,
Бездушный бог Антихристос».
Так меня от этой песни… Проняло в общем. Старушки, кстати, ее пели, когда встречать меня пришли, в Нижнем, кажется.
– Старушкам-то хоть за пение заплатили?
– Все-то вы о своем – о деньгах. Не любите русский фольклор. Вон в некоторых странах уже только по-английски поют.
– Я в Америке жить не хочу.
Гость, оглянувшись на дверь, понижает голос.
– Но, между нами, в Америке полно прекрасных людей. Тот же Обама, это вам не Буш какой-нибудь.
– Я тут, говорил уже, на досуге стал книжки читать. И вычитал мысль: «Никогда не было дела настолько дурного, чтобы его не защищали хорошие люди по причинам, кажущимся им достойными».
Гость согласно кивает и отзывается со вздохом.
– Это про меня.
Узник впервые с пониманием и грустью смотрит на своего нежданного гостя.
– И про меня.
6.
Что-то между ними после этого изменилось. Может, доверие какое-то невозможное появилось, только узник дает себе волю и начинает думать вслух. А гость-то внимательно к его мыслям прислушивается.
– Вот народники, они считали капитализм в России упадком и регрессом, и брали за образец будущей жизни общину.
– Ты тут маленько одичал. Народники. Это когда было? В позапрошлом веке.
– Нет, послушайте, а что если у России свой, неподражательный путь жизни?
– Кто это говорит? Махатма Ганди? Мать Тереза? Василий Блаженный из-под собора выполз? Хотя за пропаганду психического «своего пути» мы в тюрьму не сажаем. А вот для предвыборной речи тезис сомнительный. Народ не в общину, народ в Европу хочет.
– Не отмахивайтесь. Я тут столько всего прочел! Так вот Чаянов с Вернадским думали примерно так же: есть, есть наш собственный третий путь!
– Что они держат в этих тюремных библиотеках? Хотят, чтобы из колонии прямо в психушку шли?
– Никто не хотел видеть прямой связи общины и кооперативов, которых в тринадцатом году было уже более тридцати тысяч!
– Голубчик, на воле вы и слова-то такие позабудете: община, кооператив…
Узник будто просыпается и с недоумением смотрит на гостя.
– На воле? А где она, эта воля?
И узник садится, ссутулившись и вобрав голову в плечи.
– А вот прямо за проходной воля и начинается. Главное – выйти с чистой совестью.
– Если это вы называете волей…
– Не я, люди называют.
– Но народ…
– Народ, народ… Я свой народ знаю. Не верят наши люди в презумпцию невиновности – вот что плохо. Их еще не посадили, а они норовят в Париж сбежать.
– Это не народ бежит.
– Тут ты прав. Народ у нас: ни дать, ни взять. Сами ни на что не пригодные, и от власти неизвестно чего хотят: чтобы рука была железная, а при этом бархатная.
– У вас же вроде бы рейтинг? Народ, говорят, души в вас не чает.
– Старая поговорка: на народ надеяться, что на песке строить. Помните, стишок был?
Я иду по росе,
Босы ноги мочу.
Я такой же, как все,
Я …
– Знаю, знаю.
– Так вот я – не хочу! В смысле, это не главное мое желание. И народ наш на самом деле не очень хочет. Потому и не размножается. На убыль идет.
– А стишок? Народное же творчество.
– Стишок – это маскировка в оправдание своей никчемности. Ничего они не хотят, кроме теплой печки. Признайте, дрянь народишко, даже против евреев.
– Ну, народ, положим, он разный.
– В основном грязный. Так им и говорю. За это они меня и любят. И ты полюбишь, как на свободе окажешься.
– У народа «стокгольмский синдром» по отношению к власти.
– Ну и что? Любить, кого боишься, – это нормально.
– Ну уж нет, я с этим не соглашусь.
– Вообще-то со мной всем, кто до Парижа не добежал, положено соглашаться. Да что с тебя возьмешь? Ты ведь хочешь просто любить? Без страха?
Узник, захваченный заветной идеей, кажется, и не замечает угрозы, промелькнувшей в словах гостя.
– Да нам всего-то нужно, чтобы наши желания соединялись с добром.
– И наступят сразу гармония и покой.
– В совершенной гармонии нет ни равновесия, ни покоя.
– Народ такое не поддержит.
7.
Узник вскакивает и начинает метаться по камере.
– Вы меня замучили своими разговорами! Этими намеками на невозможную свободу! Чего вы хотите?
– Есть прекрасное немецкое слово Verfremdungseffekt.
Узник останавливается, непонимающе глядя на гостя. Гость снисходительно поясняет.
– По-нашему проще выходит: отчуждение. Не так красиво.
– И что это значит?
– Значит, посмотри вокруг себя, как на чужое, сразу ясно станет, что к чему. Не знаете вы, о чем я мечтаю.
Узник усмехается.
– Вы же хотели запретить?
– Что еще надо запретить? – недоволен гость.
– Сами сказали: мечтать.
– Ах, мечтать?.. Ну да, но не себе же.
– Я вот с детства мечтал стать директором завода, – дерзит узник.
– Охохошеньки-хохо… Примитив. Угадайте, о чем я мечтаю.
– Чего там гадать. Думаю, ваша мечта простая: dictator in perpetuum, то есть вечный диктатор.
– Дурачок. А еще собирались возглавить страну. Ну, признавайтесь, собирались? Здесь никого нет.
– А мы с вами?
– Мы с вами не в счет. Вы хотели в президенты, я вас за это посадил. Какие после этого могут быть секреты друг от друга.
– Как сказал поэт: человек – это оазис ужаса в пустыне скуки.
– Поэт такого сказать не мог.
– Почему это?
– Поэту скучно не бывает. Я сам, в некотором роде, в полете мысли, поэт, так что знаю, что говорю.
– Письмо от сына получил.
Узник достает тщательно завернутое письмо, осторожно его разворачивает, с нежностью смотрит на рукописные строчки и, наконец, читает.
– Вот он пишет: «Низко над травой парят хищные стрекозы. Их легко ловить. А бабочки летают непонятно».
– Вот поэтому пора мне отсюда сваливать. Как стрекозе. Осто...бенело все. Извини за немецкий. Но ты мне в этом должен помочь.
От этих, совсем уже диких слов узник, судорожно пряча письмо, кидается к швейной машинке, как к средству спасения, и принимается остервенело строчить.
– Бред, бред, бред. Я ничего не слышал. Я никого не видел. Я – швея-мотористка. Строчу рукавицы, выполняю план. Никакой власти нигде для меня нет. Не было и не будет. Я – швея-мотористка.
Гость повышает голос, легко перекрывая стрекот швейной машинки, но сохраняя при этом отечески ласковую интонацию.
– Голубчик! Власть есть, и достается тому, кто ее по-настоящему хочет. Это как с женщиной. Один любит и мечтает, другой хочет и может. И чья она? А?
– Я вас не понимаю, ни по-немецки, ни по-русски. Я простая швея-мотористка.
– Да что тут не понимать? Знаешь, сколько мне лет? Нет, я, конечно, еще молодцом, и в смысле гири тебя обскочу.
Полностью потеряв нить разговора, узник отрывается от своей машинки и в упор смотрит на гостя.
– Какой еще гири?
Но гость вроде его и не замечает, принимаясь расхаживать по камере и бормотать, бормотать.
– …Счетчик мотает, стрекочет, циферки так и выпрыгивают. А мы живем в мире, где болеть и умирать неприлично. Значит, надо за собой следить: внешний вид, лишний вес. А я русский! Я холестерина хочу! Выпить водки до упора!
– Вы вроде непьющий.
Гость останавливается, понуро кивает.
– Непьющий. Но я хочу быть непьющим, потому что хочу, а не потому что так надо. Уехать я хочу, понимаешь? Душа на свободу рвется!
– У вас? «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним».
– Это что еще?
– Книга притчей Соломоновых.
– Кончай свои еврейские штучки. Я к тебе пришел как гражданин к гражданину.
Узник умоляюще протягивает руки.
– Скажите, наконец, ясно, зачем вы пришли? Не мучайте меня!
– Ну, ладно. Как говорят в Америке: рыбу и гостей больше трех дней не держат.
– Вы останетесь на три дня?!
– В твоем положении надо любым гостям радоваться.
– В моем положении есть преимущества: мне больше нечего бояться. И сколько надежд!
– Мне больше по душе мое положение. Вместо надежд у меня планы. Это по-мужски. Правда, есть чего бояться.
– И чего же вы боитесь?
– Не люблю глупых вопросов. Хотя их я не боюсь. Ты знаешь, что страх бывает четырех видов: испуг, трепет, ужас и паника? Давай костюмчиками махнемся?
– Как?
– Поменяемся.
Гость начинает расстегивать свой щегольской пиджак.
– Ты на размер не гляди, главное – с чьего плеча! Пойдешь в таком прикиде через проходную, охрана честь отдает, в лицо не смотрит, боится: костюм на нее страх нагоняет. Исходя из классификации – трепет. Примерь.
– Спасибо, нет.
– Да, ладно, накинь просто...
– Не надену, хоть срок добавляйте.
– Гонору-то, гонору… Английский, между прочим, костюмчик, высший класс.
– Не надену я ваш костюм!
Узник переходит на крик, отпихивая протянутый ему пиджак.
– Не ори. Нервный какой. Так я тебя и отдам свой костюм. Это шутка была. Шутка. Понимаешь?
– «Власу худо: кличет знахаря, –
Да поможешь ли тому,
Кто снимал рубаху с пахаря,
Крал у нищего суму?»
– Самокритично. А вот скажи, у тебя еще бывает эрекция?
– Это что за вопрос?
– Ну, ты хоть помнишь, когда стоит так, что хоть гирю вешай – пофиг?
– Ага! Вот и гиря. Дошло: вы с ума сошли.
– Объясняю. Эрегированный пенис не имеет угрызений совести. Понял, каким надо быть, на кого ровняться?
– Что вам от меня нужно?
– Интересный вопрос… Хотелось бы услышать ваш собственный ответ. Так ли вы умны, как про вас прогрессивная общественность думает?
– Опять судить будете? Это болезнь какая-то, ей богу. Прямо дурная бесконечность.
– Судить?.. Судит суд, а не я. А право, по Владимиру Соловьеву, некий минимум нравственности, равно для всех обязательный.
– Если бы для всех.
– Я же не виноват, что вы похитили пятьдесят миллиардов. Или пятьсот? Пятьдесят как-то жидко.
– Сам у себя похитил?
– Это детали. И потом – все в прошлом. Пора забыть старые обиды. Зарыть, так сказать, топор войны. Кстати, не знаешь, почему так говорят? Ах, да, ты же техническая интеллигенция… Но на мое место точно сгодишься.
– Кто все-таки из нас сошел с ума?
– Говорю же: я себе рай отстроил. И хочу там жить. Но своим товарищам, сам понимаешь, никакого доверия нет. Желающих на мое место, ты не поверишь, мало. Русские – не амбициозный народ. Или повыбили у них все амбиции? Но те, кто рядом есть, кто претендует, не сказать грубого слова, такое говно, что я, как власть им отдам, до вертолета не дойду – пристрелят без суда и следствия, и труп за деньги в мавзолее показывать станут.
– Я при чем?
– Ты легко мог отсюда свалить со всеми бабками, а какого-то сраного заместителя (кстати, русского) не захотел в тюрьме бросить. Значит, и меня не обманешь. Я тебе ядерный чемоданчик, ты мне – твердое слово, что трогать меня никто не будет. Тем более прецеденты были, целых три штуки: спокойно люди доживали, и даже на нашей территории. Хрущев – раз, Горбачев – два, Ельцин – три. А я мигом улечу, и глаза не буду мозолить. Что молчишь?
– Перевариваю услышанное.
8.
Узник думает, пытаясь трезво оценить невероятную ситуацию. Гость терпеливо ждет. Наконец не выдерживает и кричит прямо в ухо узника.
– Антихрист грядет!
Перепуганный узник оглядывается по сторонам.
– Где?
– Везде. Но первым делом он к нам, в Россию нагрянет.
Поняв, что имеет дело с умалишенным, гость отзывается сочувственно, не вступая в спор с больным человеком.
– Скоро?
– Этого никто не знает точно. Но хотелось бы не присутствовать. А вы – человек мужественный, вы столько просидели.
– А он надолго?
– На сорок два месяца.
– Три с половиной года? Это не срок. Это я выдюжу.
– Вот и хорошо. И потом, говорят, антихрист, он из евреев будет, так что вас, скорее всего, не тронет.
– Читал я тут одну книжку о генезисе дьявола…
– Вот, вот. И у меня верная примета есть. Очень уж меня женщины стали любить. Проходу не дают. Это плохой признак.
– Но почему вы ко мне именно сейчас явились? Из-за скорого прихода антихриста? Или в честь моего юбилея?
– Да плевать я хотел на твой юбилей – сиди ты еще хоть триста лет!
– Но должна быть причина для отказа от власти – такой власти!– кроме желания законного отдыха.
– На что тебе эта причина? Тебе место золотое задарма предлагают. Хватай и беги из камеры.
– Вообще-то у нас в стране власть выборная по Конституции.
– Вообще-то пока ты в тюрьме. Вот выйдешь (если выйдешь) и устраивай выборы. Ты преемник, так сказать, «врио» – власть будет у тебя – организуй, чтобы тебя еще и выбрали всенародно. Говно вопрос.
– Нет. Пока конкретно не объясните, почему именно сейчас вы сюда явились, даже обсуждать ничего не буду.
– И на волю не пойдешь?
– И на волю не пойду.
Узник усаживается за швейную машинку и принимается демонстративно строчить, теперь уже с издевкой повторяя свое заклинание.
– Я – швея-мотористка, я – швея-мотористка.
– Вот евреи… Одно слово – жестоковыйные. Но ведь на шее еще и голова должна быть.
– Сказал нет, значит нет.
– Ладно. Тут у нас один завелся, может слышал? Тоже на мое место метит.
Узник бросает шитье. Машинка замолкает.
– Антихрист?
– Да какой он антихрист! Так, популист недоделанный.
– Вы считаете, у него есть шансы?
– Ну, не до такой степени. Но он нищий и добрый.
– Тем более не страшен.
– Ты сидишь тут и не знаешь, что на всех заборах вместо старых добрых граффити нашего детства один и тот же стишок:
«Жулики и воры –
Пять минут на сборы!»
– Народное творчество.
– Именно что народное. Он предлагает весь УК отменить. Оставить только две статьи: за мелкие преступления – в монастырь послушником, невзирая на нацию. А за крупные вообще никуда не сажать.
– Так это для вас хорошо.
– Пошути мне еще. Шутить пока только я имею право.
– Так что с крупными преступлениями?
– Клеймо на лоб, и живи как знаешь. Но всем остальным гражданам строжайший запрет с тобой иметь дело – ни дружить, ни родниться, ни вообще тебя в дом пускать.
– Меня?
– А ты как думал – за шестьсот пятьдесят сворованных миллиардов? А кто такого клейменого к себе пустит, самого в монастырь. Народу понравилось. Списки составляют на клеймение.
– Наказание не должно внушать большего отвращения, чем проступок.
– Это кто сказал?
– Карл Маркс.
– А… Этот не считается.
– Оптинские старцы утверждали, что мир вообще идет по пути нравственного изменения не вверх, а вниз, то есть в нравственном отношении мир ухудшается.
– Ты можешь Россию от крови спасти! Это ж твоя родина, хоть ты и еврей. Я не рыжий и не хочу, чтобы меня вздернули. И бежать с российского корабля в последний момент тоже не хочу. Дай мне уехать по-человечески в мирной обстановке. И чтобы в учебниках про меня все культурно.
– Значит, по-вашему, корабль тонет?
Гость отходит, сколько позволяет камера, в сторону, глаза у него становятся оловянные, и отвечает он совершенно равнодушно.
– Это будет ваш вопрос.
– Если я соглашусь.
– Соглашайся. Какой у тебя выбор?
– А можно мне свободу получить, а вашего места не надо?
– Фигушки! Одним пакетом все идет. Или свобода плюс Кремль, или подыхай здесь в швеях-мотористках.
– Бездна бездну призывает.
– Знаю. Сорок первый псалом. Abbyssus abyssum invocat.
– Ого! И по латыни знаете.
– Я – юрист, если вдруг забыл. Может, потому мне так в лом на этом месте. Кто из технической интеллигенции, наверное, легче. И сколько бонусов! Сам увидишь.
– Акция: при покупке любых трех слоек кисель в подарок.
– Один понимающий писатель сказал: богатство – это пиво, власть – шампанское.
– Я тут стал вовсе непьющий. Меня никаким алкоголем не обольстишь.
– Знаю. Я немножко полистал ваши письма «из глубины сибирских руд». Про права человека и прочие глупости.
– Права человека – это глупости?
– Как сказать. Вот этот новый, он что утверждает? Нет у человека никаких прав, говорит. Одни обязанности. Ребенка-то любимого родители не правам учат, а обязанностям: умываться, зубы чистить, доедать с тарелки, уроки делать. О правах дитю ни слова. Даже, говорит, у меня (ну, в смысле, не у меня – меня, а у него) прав нет и не будет. Просто обязан, говорит, людям помочь и Россию спасти. А права, говорит, мне на это никакого не надо. Народ верит.
– Ну, у народа в нашей стране, действительно, прав нет.
– Вот, вот. Народ верит, потому что никакие права народу не нужны, и, значит, реальный рейтинг у этого нового растет. А мы тут сидим с тобой и лясы точим. Предлагаю тебе деньги и власть – чего еще надо?
– Безудержное стремление к богатству и власти – это, простите, психический дефект.
– Это, когда деньги и власть недоступны, например, в тюрьме, такое желание – психический дефект. А вот когда появляется реальная возможность… Вы же сами деньги копили и к власти рвались. Было?
– Было. Не отпираюсь.
– Ну, и хватит валять дурака! Ты же знаешь: кадры решают все. Вот ты сам и будешь все решать. Вперед. Сегодня лагерь, завтра – Кремль. Неплохая перспектива?
– Не уверен. И не хочу я с вами вступать в сговор.
– Ну, уж сразу и сговор! А сам еще говорил, что рецепт выживания – учиться понимать и прощать. Давай, учись выживать на мне.
Узник молчит.
– Опять замолчал… Ну, что с тобой делать? Вот Ницше писал о вечном возвращении. Der ewige Wiederkehr. Красиво же? И главное, есть куда возвращаться теперь. Тебе меня Бог послал.
Узник молчит.
– Поговори со мной, пожалуйста... Я же брат твой!.. Ну, хочешь, на колени встану?
Гость слегка сгибает ноги в коленях и ждет, выжидательно глядя на узника.
А узник как будто опять начинает думать вслух.
– Каждый во что-то верит, в Бога или в судьбу. Невозможно даже представить, что все вокруг происходит чисто случайно.
Гость выпрямляет ноги и потягивается.
– Правильно. Я вот не случайно же к тебе явился.
– Как вы сказали: вас мне Бог послал?
– И ангелы всю дорогу охраняли. Для чего?
– Для чего вы приехали или для чего вообще все?
– Последний вопрос тоже интересный, тем более на первый я ответ сам знаю.
– А на второй вопрос у меня нет точного ответа. Только живем мы не просто так, я уверен.
– Каждый живет для счастья.
– Каждый – да. А все вместе? Есть же какая-то общая цель. Может, она Богом и называется? Когда служим этой цели, тогда и счастливы.
– Ты не в монастырь ли намылился? Это не дело. Это мне не надо.
– Да, нет, цели можно служить везде. И власть тут не помеха, а подспорье. Я ведь, если честно, вовсе и не согласен с призывами к либеральной, демократической общественности не сотрудничать с властью. Это – путь слабых. Путь сильных – на любом месте отстаивать демократические ценности, права человека, бороться с коррупцией и не поддаваться искушениям. Пусть власть, пока она власть, сама выбирает, с кем ей пойти, зная при этом, что мы принесем во власть не только свои знания, но и свои идеалы.
Гость хватает узника за руку и пожимает ее, несколько раз энергично встряхнув. Высвободив руку, узник инстинктивно вытирает ладонь о свою тюремную робу. К счастью, гость не обращает на это внимания.
– Сильно сказано. Даже меня проняло. Видишь, как я вовремя. Как говорится, вам и карты в руки.
– Стоит только уйти от цели, жизнь становится бессмысленной, а о смерти страшно даже подумать.
– Это ты на кого намекаешь?..
– Это я просто думаю вслух.
– Ну, о чем тут думать?! Бери и владей.
– Есть одна проблема. Мы не знаем народа, которым пытаемся управлять.
– Тут и знать нечего! Я сам – народ.
– Нет, вы не народ. Вы – сбоку припека, худший его представитель.
Гость разглядывает узника с искренним интересом: такого он не слышал много лет, а может, никогда не слышал.
– Даже не обижаюсь. Честное слово. Просто объясни – почему?
– У кого есть хоть какие-то способности, своим делом занимается. А вот кого Бог талантами обошел, тот к власти рвется, чтобы доказать, что и он для чего-то нужен, хотя бы для того, чтобы этим всем, способным гордецам, указания давать.
– Думаете, указания целой стране давать легко?
– Думаю, чтобы власть получить, нужна лишь хитрость. И немного удачи.
Гость оценивающе смотрит на узника.
– Да ладно, хватит! Есть у тебя хитрость. И удача в моем лице привалила. Ты же в прошлом – техническая интеллигенция, потом скоробогач, и хорошо знаешь в жизни только одно: с какой стороны хлеб намазан маслом. Но уж зато это ты знаешь лучше всех.
– Может, в чем-то вы и правы. Граждане России приватизацию законной не считают. Вы же в курсе моего предложения: каждая компания должна заплатить налог в размере оборота компании в год ее приватизации.
– И после этого собственность будет считаться законной и священной.
– Для этого должен быть четкий договор между государством и собственником.
Гость с удовольствием подхватывает: наконец-то разговор пошел правильный.
– Безо всякого участия бессмысленных и нищих граждан.
– Так вы согласны?
– Я-то, допустим, согласен. А те, кто не признают легитимности вашей собственности?
– И вашей.
– Меня не трожь. Я – президент в законе. Ты про себя объясняй.
– Я же сказал: налог…
– Налог – это идея расплаты с государством. А кто расплатится с народом?
– А как легализовать собственность, по-вашему?
– Ну, если строго теоретически – раздать акции ваших предприятий всем гражданам поровну. Помните ваучеры?
– Как Чубайс обул граждан России?
– Граждане тоже помнят. И детям рассказывают. Но ты народа не бойся, ты не Чубайс, тебя народ не тронет. У нас, раз из тюрьмы, значит, свой парень. Жалеть тебя будут, еще и проголосуют сдуру. Шучу. Ну? У тебя ж идей, вон, полно. Воплощай. Хватит ломаться, как целка-невидимка.
И гость протягивает узнику свой чемоданчик, который все это время не выпускал из рук.
– Даром отдаете?
– Так уж и даром. Нет, я тебе подарочек, но и ты мне подарок – гарантию на спокойную жизнь, так сказать, отпускную грамоту.
– И поверите?
– Ты за добро злом не заплатишь. Да и у меня документики на твои восемьсот тридцать ворованных у народа миллиардов храниться будут.
– Страхуетесь?
– Страховой бизнес – самый прибыльный. Да чего тут думать? Права человека восстановишь. Справедливость всякую разведешь. Чужих разгонишь, своих не обидишь…
Узник протягивает руку к чемоданчику, теперь они держат его вдвоем.
– Настоящий? Ядерный?
– Обижаешь.
9.
Дверь камеры со стуком распахивается, и входят уборщицы с ведрами в руках. Увидев мужчин, они сразу пускаются в крик.
– Вы чего здесь?
– Это еще что?
– Откуда такие взялись?
– Здесь никого быть не должно!
– Пошли отсюда быстро!
Уборщицы начинают выплескивать воду на пол. Гость брезгливо отдергивает ноги в дорогих ботинках.
– Вот он – твой народ! Для них вы мечтаете организовать равные возможности? Вы посмотрите на эти лица.
Но уборщицы не дают ему договорить.
– Нечего на нас глядеть. Узоров на лбу нет.
– И хватит базарить. Нашли место!
– Уборка у нас в тюрьме! Уборка!
– Нечего тут мешаться!
Уборщицы плещут воду под ноги узнику и гостю, теперь уже нарочно попадая им на ботинки и брюки. Мужчины пятятся, загораживаясь от брызг руками. Чемоданчик падает на пол. Узник и гость покидают камеру. Та уборщица, что помоложе, первая приходит в себя, опускает ведро на пол и вдруг замечает чемоданчик.
– Чемодан свой забыли. Догнать, что ли? Отдать?
– Много чести – бегать еще за всякими.
Младшая уборщица поднимает чемоданчик, разглядывает.
– Тогда давай поглядим, чего там. Может, деньги.
– Да какие деньги, телевизора ты насмотрелась. Бумаги там всякие бесполезные.
– Ну, для мужиков-то может они нужные.
– Тем более, давай в мусорку бросим.
– А если они нам за эти бумаги заплатят? Вдруг они богатые?
– Дед мой, царство ему небесное, он как говорил? Все, говорил, устроено просто. В тюрьме или в лагере кому лучшее место? Тому, кто за это место убить готов. Он знал, у него три ходки на зону было. Так и богатство – оно тому дается, кто за него убить готов.
Младшая пугается.
– Считаешь, это убийцы были? Я думала, в этом здании их не держат.
– Убийцы они или нет, не знаю. Но если они богатые, к ним лучше не соваться. Теперь весь народ наш так поделился: кто за деньги убить готов, тот богат; а у кого рука не поднимется, вон, как мы с тобой, полы трет.
– Так что если там бумаги ценные…
– В мусорку их от греха.
Младшая уборщица бросает чемоданчик в большой мусорный пакет. Старшая одобрительно кивает.
– Жили мы без этого чемоданчика и без ихних денег, и дальше проживем. Целее будем.
– Да и вообще непонятно, кто это был-то? Тут никого быть не должно.
– Тюрьма – место нехорошее, мало ли кто тут может быть.
– Тьфу на них! Надо вымыть как следует.
Уборщицы опускаются на колени и начинают тереть пол.