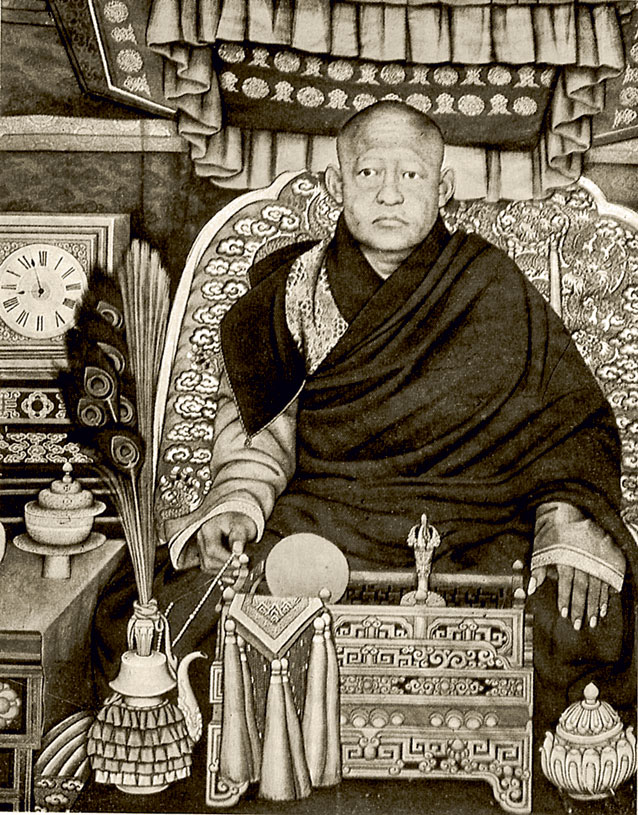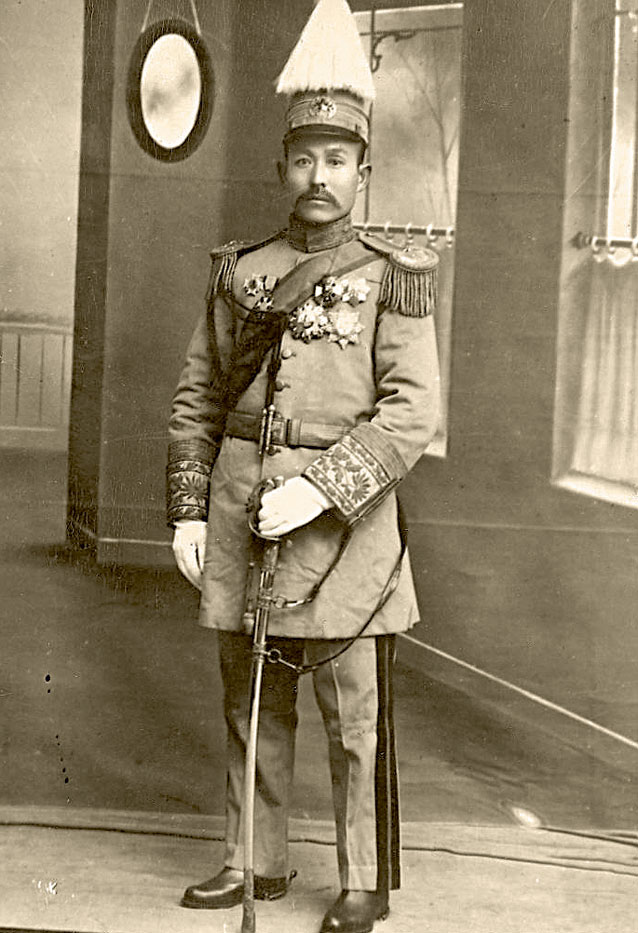Самодержец пустыни
Документальный роман «Самодержец пустыни» вышел в издатьльстве AD MARGINEM в начале сентября 2010 года.
Рождение ужаса
1
В ноябре 1920 года, после первого, неудачного штурма Урги, Унгерн вновь встал лагерем в долине Барун на речке Тэрэльдж. Преследовать его китайцы не решились, однако настроение в дивизии было подавленное. При подсчете потерь выяснилось, что они огромны: треть бойцов ранена, десятая часть убита, четверо из каждых десяти офицеров остались лежать мертвыми на ургинских сопках. К тому же начался падеж лошадей, не привыкших обходиться без овса; Азиатской конной дивизии грозила реальная опасность превратиться в пешую. Требовалось заменить забайкальских лошадей местными, но взять их было негде, как и скот для котлов. Монголы угнали табуны и стада подальше от района боевых действий, в округе попадались лишь юрты последних бедняков. «Достаточно было взглянуть на этих исхудалых, почерневших от грязи и дыма кочевников, чтобы понять, что здесь ничего не добудут самые искусные фуражиры», – вспоминал адъютант барона, поручик Князев.
Стояли морозы, а раздобыть юрты удалось не сразу. Теплую одежду сами шили себе из овчины и бычьих шкур по доисторической технологии – используя жилы животных вместо отсутствующих ниток и дратвы. Обувь износилась, нужда заставила изобрести так называемый «вечный сапог»: ногу плотно обтягивали только что снятой, еще теплой шкурой, а затем быстро ее сшивали. Застывая, шкура принимала форму ноги, сидела мертво и не снималась месяцами.
Мука кончилась, питались только мясом, да и его не хватало. При таком рационе люди ходили полуголодные, многие страдали выпадением прямой кишки. Чай, табак, спички и масса других обиходных мелочей стали объектом вожделения и предметом спекуляции. В победу над китайцами мало кто верил, началось «скрытое брожение», а потом и дезертирство.
В эти недели с Унгерном происходят необратимые перемены. Они отмечены всеми, кто знал его в Даурии. Из сурового, но справедливого начальника, не щадящего себя и требующего от подчиненных той же беззаветной жертвенности, он становится олицетворением первобытного ужаса – человеком, способным жечь людей заживо и собственноручно пересчитывать отрубленные головы изменников. Теперь окончательно обнажаются патологические стороны его души, до того прикрытые необходимостью считаться хоть с какими-то социальными нормами. Абсолютное одиночество, абсолютная власть, крайняя степень физического и нервного истощения, непривычная трезвость и маниакальная вера в собственную миссию, которую он начинает воспринимать как возложенную на него свыше и недоступную пониманию окружающих, рождают в нем сознание своего права быть выше всех моральных законов, не признавать над собой никакого человеческого суда.
До поражения под Ургой он мог подвергать офицеров унизительным наказаниям, иногда расстреливал, но не поднимал на них руку. Отныне офицерские погоны перестают быть защитой от ударов его ташура. Восстановлена система доносительства с целью выявлять потенциальных дезертиров и вообще всех недовольных. Виновные караются с небывалой прежде жестокостью. Даурские застенки возрождены в юрте ординарца барона, хорунжего Бурдуковского по кличке Квазимодо. Он стал главным палачом для «своих», как Сипайло – для чужих.
С Баруна было много побегов, одиночных и групповых, но погоня всегда имела преимущество в скорости, ибо двигалась на сменных, а по Хайларской дороге – на уртонных (ямских) лошадях. Добраться до Маньчжурии удалось только троим счастливчикам, в их числе капитану Судзуки, командиру Японской сотни. Думали, будто он бежал в Ургу, и Унгерн опасался, что Судзуки раскроет китайцам его секреты, главный из которых состоял в малочисленности Азиатской дивизии, но он обманул преследователей, направившись на восток не кратчайшим путем, а более длинным – по Старо-Калганскому тракту. Если бы его маршрут угадали верно, Судзуки, как всех беглецов, ожидала смерть.
Некоторые неудачники были выданы осведомителями и погибли прежде, чем сумели осуществить свой замысел. У одного офицера нашли запас лепешек, что было неоспоримой уликой, доказывающей намерение бежать. Увидев приближающегося к его юрте Бурдуковского, он попытался скрыться, но был пойман, истерзан пытками и расстрелян посреди лагеря.
Самым массовым и трагичным стало бегство сформированной в Акше Офицерской сотни, входившей в полк имени атамана Анненкова. Его временный командир, поручик Царегородцев, сам организовал этот побег. В нем участвовали пятнадцать офицеров и двадцать два всадника, считавшихся рядовыми, но тоже имевших офицерское звание. Все они раньше служили у Колчака и доверяли друг другу. Доносчиков среди них не нашлось. В назначенный день Царегородцев с вечера выслал большую часть своих людей в конную сторожевую заставу на подступах к лагерю, а потом сам с остальными участниками «заговора» выехал «для проверки заставы». Соединившись, «заговорщики» помчались на восток, имея в запасе целую ночь, чтобы уйти как можно дальше. Узнать о побеге Унгерн мог не раньше утра.
Когда на рассвете ему доложили о случившемся, Князев впервые увидел барона плачущим от бессильной ярости. Впрочем, скоро «глаза его просохли и приняли обычный оттенок холодного колодца, куда страшно заглянуть». Спустя полчаса вдогонку за беглецами поскакали две сотни всадников чахарского князя Найдан-гуна.
Это были те самые чахары, которые вместе с харачинами служили в Даурии как военный «кадр» правительства Нэйсэ-гэгэна. После мятежа Фушенги их перевели в Верхнеудинск, в дивизию генерала Левицкого, позже предательски убитого ими на льду Гусиного озера. Китайцы, столь же вероломно расправившись с Нэйсэ-гэгэном, отправили чахаров сторожить хлебные поля на реке Харе к северу от монгольской столицы, но после боев под Ургой они рискнули предложить свои услуги бывшему начальнику. Их предводитель Найдан-гун решил, что в создавшейся ситуации барон не станет припоминать им старые грехи, и оказался прав. Унгерн с радостью принял этих профессиональных разбойников, простив им убийство русских офицеров. Ему нужна была туземная конница, а чахарам – возможность под его покровительством грабить китайцев.
После того как Унгерн послал их в погоню за Офицерской сотней, в лагере воцарилось напряженное ожидание. Старые даурцы жаждали крови «предателей», бывшие колчаковцы «сочувствовали отважным и с замиранием сердца ждали роковой развязки».
О дальнейшем рассказывали по-разному. Ясно только, что по дороге Царегородцев начал отделять от своего отряда небольшие группы, чтобы сбить погоню со следа, и сам вошел в одну из таких групп, но большая часть его людей, около трех десятков человек, еще держались вместе, когда были настигнуты чахарами. По одной версии, те напали на них ночью, во время привала, как то было во время резни на Гусином озере, и перебили их спящих. По другой, более вероятной, сначала угнали лошадей, пасшихся рядом с биваком, а утром, окружив беглецов, издали открыли по ним ружейный огонь. Офицеров было вдесятеро меньше, они заняли круговую оборону на вершине сопки и отстреливались три дня, пока не иссякли патроны. Кто-то, вероятно, покончил с собой, прочие были убиты и обезглавлены. Их головы чахары в кожаных мешках привезли Унгерну в подтверждение того, что задание выполнено.
Эти доказательства были предъявлены ему вечером не то пятого, не то шестого дня после побега. По рассказу Князева, которого трудно заподозрить в желании опорочить любимого начальника, к тому времени уже стемнело, поэтому Унгерн при свете костра внимательно осмотрел каждую из приблизительно тридцати голов, опасаясь, что чахары его обманут и «подсунут фальшивки в корыстных целях». Опознав бывших соратников в лицо, он пересчитал жуткие трофеи, после чего строго по счету выдал Найдан-гуну обещанную награду. По слухам, чахары получили по десять золотых империалов за голову.
Царегородцева догнали и убили в шестидесяти верстах от границы. Все те, кто успел отделиться от главной группы, тоже погибли, живыми привезли трех человек, в том числе поручика Ждановского. Подозревая, что «метастазы заговора пронизали всю дивизию», Унгерн приказал пытать этих троих, чтобы узнать правду. В юрте Бурдуковского с них ремнями срезали кожу, срывали ногти, сажали на раскаленную печь, но ничего не добились и в назидание потенциальным дезертирам повесили в береговых кустах возле проруби на Тэрельдже, где брали воду и поили лошадей. «Утром и вечером прилетало черное воронье на труп Ждановского и гулко стучало клювами по мерзлому телу», – пишет неизвестный унгерновский офицер.
2
Немного позднее, уже в новом лагере на Керулене, был заживо сожжен любимец барона, прапорщик Чернов. Историю его преступления излагали в разных вариантах, но самым правдоподобным кажется следующий. После боев под Ургой в дивизии было много раненых, и Унгерн решил отправить их в Акшу, в тамошний госпиталь. Оторванный от всего мира, он не знал, что и над Акшей, и над Даурией уже поднят красный флаг. Командовать походным лазаретом из нескольких десятков подвод назначен был бывший полицейский Чернов (по другим сведениям – выпускник консульской школы во Владивостоке). Он прошел по степи около пятисот верст и лишь неподалеку от границы выяснил, что в Забайкалье идти нельзя. Решили возвращаться, но продовольствие кончалось, медикаментов не было, и тех тяжелораненых, кто все равно не вынес бы дальнейшего перехода, Чернов якобы из милосердия решил отравить. Так, вероятно, излагал дело он сам, но обвинение утверждало, что смертельную дозу яда получили все имевшие при себе какие-то ценности или деньги.
Преступление было беспрецедентным, и, когда об этом донесли Унгерну, дело не ограничилось обычными «бамбуками» с последующим расстрелом или петлей. Приказано было сжечь негодяя на костре. Экстраординарность наказания Князев оправдывал исключительной тяжестью вины Чернова, но даже он признавал, что эта казнь отодвинула ее свидетелей «на семьсот-восемьсот лет назад, в глубину средневековья».
На Святки, когда дивизия наслаждалась отдыхом и праздничным рационом, Чернову дали двести палок, затем подвесили на дереве, а под ним подожгли громадную кучу хвороста, облитого «ханой» – рисовой водкой. Среди его предсмертных проклятий одни расслышали и запомнили одно, другие – другое. Князев облек их в литературно-чеканную формулу: «Здесь вы меня жжете, подождите, на том свете я вас пуще буду жечь!» – будто бы крикнул Чернов своим палачам, имея в виду, что всем им, включая его самого, уготован ад, но уж там он как более важный преступник будет мучить менее важных.
Унгерн, как всегда в таких случаях, отсутствовал, но посмотреть на казнь собралась вся дивизия. Скоро, однако, зрителей почти не осталось. По словам Макеева, «жгутовые нервы унгерновцев не выдержали страшной картины». Хотя сам он, похоже, не ушел до конца, иначе не увидел бы, что, едва пламя подобралось к ногам уже потерявшего сознание Чернова, «кожа на ступнях завернулась, как завертывается подошва, брошенная в огонь, и сало полилось и зашипело на ветках». Такого рода описания редко рождаются с чужих слов.
«Огонь побежал вверх по белью, – рассказывал Анониму очевидец, – волосы поднялись дыбом и вспыхнули. Ноги почернели и становились все тоньше, туловище покрылось огромным красным пузырем». Наконец, веревки перегорели, и труп рухнул в костер. Наблюдательный Макеев отметил, что голова Чернова «превратилась в череп негра – курчавый, из черного пепла, барашек».
Протестовать никто не решился, но впоследствии возник слух, будто один мягкосердечный офицер, не в силах вынести подобное зрелище и не способный что-либо изменить, при казни Чернова подорвал себя ручной гранатой. Позднее, во время похода в Забайкалье, в стоге сена заживо сожгли заподозренного в большевизме студента-медика Энгельгардт-Езерского, и этот случай породил аналогичную легенду: якобы некий свидетель казни, интеллигентный молодой человек, незадолго до того попавший в Азиатскую дивизию, настолько был потрясен страшной расправой, означавшей для него крушение всех идеалов, что бросился в Селенгу и утонул. Обе истории абсолютно недостоверны, и обе говорят о том, что унгерновцам хотелось отыскать в своих рядах хотя бы двоих праведников, ценой собственной смерти способных искупить вину остальных.
Штурм Урги
1
К концу января 1921 года Унгерн сосредоточил все свои силы возле восточной оконечности Богдо-ула, в сорока верстах от Урги. Лагерь разбили в урочище Убулун близ Налайхинских угольных копей, блокировав город со стороны Калганского тракта. Согласно Макееву, в Азиатской дивизии было тогда около тысячи человек, считая «интендантских, обозных и прочих мертвых бойцов». Сам Унгерн на допросе говорил, что накануне штурма Урги имел тысячу двести всадников, кто-то увеличивал эту цифру еще на две-три сотни, но все включали в нее не менее пятисот монголов, чьи боевые качества оставляли желать лучшего. Русских и других европейцев насчитывалось не более трехсот – трехсот пятидесяти человек – в основном офицеров, артиллеристов и пулеметчиков. Противник обладал громадным численным перевесом, но Унгерна это не смущало.
Чтобы определить дату, благоприятную для начала штурма, он впервые обратился к ламам, что позднее станет для него обязательным при всех более или менее серьезных операциях. Обычно использовались астрологические таблицы и гадание по трещинам на брошенных в огонь бараньих лопатках, но на этот раз дополнительно прибегли к еще одной процедуре, в особо важных случаях принятой и у китайцев: на землю положили связанного козла, олицетворяющего собой противника, затем рядом с ним «начались бесконечные моления и заклинания под рев труб и грохот барабанов», в результате чего у козла должно было «пропасть сердце». Это произошло утром четвертого дня гаданий. Удовлетворенные ламы объявили, что теперь можно атаковать, столица тоже падет на четвертый день штурма. Их предсказанию Унгерн доверился настолько, что, согласно его приказу, каждый всадник должен был иметь при себе лишь трехдневный запас еды.
Две первые, ноябрьские, попытки захватить Ургу были предприняты наобум, но теперь существовал достаточно детальный план операции. Его разработал подполковник Дубовик, при Колчаке прошедший ускоренный курс Академии Генерального штаба в Томске. По дороге в Маньчжурию он был задержан Унгерном на Керулене и не то по его заданию, не то «от скуки» составил какой-то «доклад» – вероятно, с данными о китайских войсках в Урге и схемой воздвигнутых ими оборонительных сооружений. К докладу прилагалась «диспозиция» с планом атаки, которую Унгерн нашел «отличной».
План Дубовика был рассмотрен и с небольшими изменениями принят на единственном в истории Азиатской дивизии совещании командиров отдельных частей. Некоторым из его участников Унгерн сам дал краткие характеристики на допросах и в беседах с Оссендовским. Об одном было сказано: «Храбрый, но мнит о себе». О другом: «Храбрый, но жесток, как черт». О третьем: «Храбрый, но изменил мне». В первой половине все эти аттестации однообразно справедливы: за редкими исключениями, командиры унгерновских полков, дивизионов и сотен были головорезы, рубаки и пьяницы. Особняком среди них стоял генерал-майор семеновского производства Борис Резухин – старый, еще довоенный приятель Унгерна.
Это был, как его описывает Торновский, щеголеватый, маленького роста блондин с пушистыми усами, по натуре замкнутый и молчаливый, прекрасный наездник, но чужак в казачьей среде, не способной разделить с ним его любимый досуг – «кейф за рюмкой ликера и кофе и приятную беседу». В Монголии он стал вторым человеком в дивизии и единственным, кому Унгерн полностью доверял, хотя никогда не относился к нему как к равному. Когда на допросе в плену его попросили охарактеризовать уже мертвого к тому времени помощника, он сказал, что Резухин – «только послушный», «мог сделать, что ему прикажут». Безгранично преданный своему начальнику, немевший в его присутствии, он подражал ему даже в манерах и, по словам доктора Рябухина, был «бледной копией барона». То, что в оригинале восхищало и ужасало, в Резухине воспроизводилось как бы механически, с несравненно меньшим эффектом: его боялись, но перед ним не трепетали. Впрочем, Торновский нашел еще один ключ к душе этого человека: «Как для истинного кавалериста-воина, в его жизни деньги и сама жизнь не имели довлеющей ценности». Это давало ему право повелевать людьми, приверженными тому и другому.
Суть предложенного Дубовиком плана состояла в следующем: произвести «диверсию» на северных окраинах столицы, то есть имитировать наступление там же, где оно развернулось в ноябре, но основной удар направить на Мадачанское дефиле – цепь высот в предгорье Богдо-ула, между рекой Толой и китайским пригородом Урги, Маймаченом. Они были хорошо укреплены, зато после овладения этим центральным узлом обороны силы противника оказались бы разорваны надвое. После занятия Мадачанских сопок предполагалась атака на Маймачен, а затем, в случае успеха, – на Ургу.
Есть известия, будто Унгерн обещал «войску» на три дня, как при Чингисхане, отдать город на разграбление, но скорее он дал понять, что закроет глаза на грабежи первых дней. При этом была очерчена запретная для посягательств зона. В нее вошли буддийские и конфуцианские храмы, иностранные консульства и торговые представительства. Для наглядности азиатским частям показали даже какие-то флаги, включая, вероятно, американский и британский, чтобы никто не смел покушаться на дома, над которыми они вывешены. В идеале тем же кочевникам предстояло смести с лица земли прогнившую европейскую цивилизацию «от Тихого океана до берегов Португалии», но это было делом будущего. Пока Унгерн опасался настроить против себя западные дипломатические миссии в Китае.
В дивизии все с нетерпением ждали приступа. Урга была рядом, с высот Богдо-ула открывались ее улицы, разноцветные кровли дворцов и кумирен. Город казался оазисом изобилия среди снежных степей. Так аркебузиры Кортеса смотрели на столицу ацтеков, крестоносцы – на стены Иерусалима, а бойцы Фрунзе – на вожделенные, тонущие в неправедной роскоши города Крыма. Для полуголодных, оборванных, замерзающих людей победа стала вопросом жизни и смерти. После взятия столицы, разговаривая с кем-то из русских колонистов, Унгерн назвал себя «воскресшим из мертвых». При неудаче монголы могли разбежаться, а без них мороз и голод стали бы грозными союзниками китайских генералов. В полках не осталось ни крошки муки, питались только мясом. Запасы соли тоже подошли к концу, остатки разделили и выдали каждому на руки. Выгоднее считалось посолить не мясо, а воду, в которой мочили куски баранины и конины, сваренные в пресной воде. Всадники были одеты в лохмотья и шкуры животных, Унгерн выглядел не лучше – очевидец запомнил на нем шинель с наполовину обгорелыми полами и грязную папаху, «когда-то белую». Почти все были обморожены, позже в ургинском госпитале сотнями ампутировали пальцы рук и ног.
В ночь на 1 февраля Резухин с главными силами дивизии, включая монгольский дивизион и чахаров Найдан-гуна, с двенадцатью пулеметами, не способными вести длительный огонь из-за отсутствия лент, и четырьмя пушками, к которым почти не имелось снарядов, выступил из лагеря на Убулуне.
«Серебристая пыль струилась над сугробами и заметала конский след. Как призрачные тени, наступающие колонны быстро приближались к Урге. Остановились. Громадным веером разбросилась цепь разъездов и скрылась в темноте», – пишет Аноним в характерном, нервно-приподнятом стиле двадцатых годов, когда на фоне нэпа, с его торжеством пошлости по одну сторону советской границы, эмигрантского прозябания – по другую, недавнее прошлое равно для красных и белых подернулось романтическим флером. Память об ушедшей вместе с ним молодости вдохновляла мемуаристов в обоих лагерях, но побежденные чаще брались за перо. Они, в отличие от победителей, не считали свою нынешнюю жизнь естественным следствием предыдущей, прошлое стало для них абсолютной ценностью, а не прологом чего-то большего. Прежняя жизнь воспринималась полностью завершенной, цельной, не имеющей продолжения и, значит, настоятельнее взывала к необходимости запечатлеть ее для современников и потомков.
Сражение за Ургу стало одной из легенд Белого движения. То, что победа была одержана за пределами России, не умаляло ее значения, напротив, придавало ей тот же всемирно-исторический смысл, на который претендовала русская революция, и тот же характер интернационального противостояния между голодными и сытыми, между вооруженными до зубов угнетателями и почти безоружными борцами за справедливость, как изображала Гражданскую войну большевистская пропаганда. Это был едва ли не последний в военных анналах случай, когда не соотношение сил и не техника определили исход этой странной битвы, проигранной китайцами еще до ее начала. У них, как у связанного козла, ставшего объектом магических манипуляций, «пропало сердце». Иначе трудно понять, каким образом несколько сот разноплеменных всадников сумели победить чуть ли не вдесятеро большую армию с тяжелой артиллерией и современными средствами связи.
Столичный гарнизон насчитывал десять-двенадцать тысяч штыков и сабель, а вместе с мобилизованными поселенцами его численность доходила до пятнадцати тысяч при трех шестиорудийных батареях и таком же числе пулеметных рот по двадцать четыре пулемета в каждой. Солдаты были прекрасно экипированы, жалованье им выплачивалось без задержек. Эти части считались одними из лучших во всей китайской армии. Год назад они пришли в Монголию с Сюй Шучженом и остались здесь после его опалы.
В первый день боев у Мадачана китайцы отчаянно сопротивлялись. Их позиции были выгодно расположены, окопы отрыты в несколько линий и оборудованы пулеметными гнездами, а проволочные заграждения перед ними не позволяли развернуть конницу. Резухину пришлось действовать в пешем строю, но патронов было так мало, что стреляли только с изготовки; стрельба на ходу стала непозволительной роскошью. Чахары Найдан-гуна и полторы сотни всадников монгольского дивизиона попытались было обойти обороняющихся с тыла, но под пулеметным огнем немедленно бросились врассыпную; их с трудом удалось собрать и «привести в порядок». С наступлением темноты атаки прекратились, не принеся успеха наступающим.
Ничтожность своих сил Унгерн должен был маскировать постоянной имитацией активных действий на разных участках. С той же целью он применил старую, как мир, хитрость – на ночлеге приказал всем частям разложить большие костры из расчета один костер на троих человек. Сопки и склоны Богдо-ула озарились сотнями огней. Они полукольцом охватили Ургу, создавая впечатление вставшего на бивак огромного войска.
С рассветом возобновились атаки на Мадачанские высоты. Днем китайцы отошли на вторую линию обороны, но в этот момент у Резухина иссякли патроны. К счастью, удалось перехватить две направлявшиеся к китайским позициям двуколки с патронными ящиками. Противники были вооружены японскими винтовками одного образца, трофеи тут же пустили в дело. К вечеру 2 февраля гамины не выдержали натиска и начали отходить в Маймачен, под защиту крепостной стены. Это был серьезный, но чисто тактический успех. Главные события дня, решившие судьбу монгольской столицы, разыгрались не здесь, а четырьмя верстами западнее, и не на поле боя, а в Ногон-Сумэ – Зеленом дворце Богдо-гэгэна.
2
Освобождение хутухты породило массу самых невероятных слухов. Не только монголы и китайцы объясняли случившееся вмешательством сверхъестественных сил, но и русские не отрицали такую возможность. «Помилуйте, – передает Першин разговоры ургинских обывателей, – ведь на виду всей Урги в богдойский дворец среди бела дня проникли похитители, обезоружили, а где надо и перебили охрану, забрали Богдо и унесли… Ну, скажите, не чудо ли? Отвод глаз, что ли, случился или что-нибудь в этом роде?»
Среди самих унгерновцев тоже мало кто знал, как именно произошло похищение. Макеев описывает его вполне в лубочном духе: «Тибетцы лихим налетом, с дикими криками, напали на тысячную охрану, и, пока китайцы в панике метались по дворцу, дикие всадники ворвались в последний, нашли там живого бога, вытащили его наружу, положили через седло и ускакали».
Другие мемуаристы добавляли к этому описанию живописные, но малоправдоподобные детали. У Торновского хутухту с семьей увозят по руслу замерзшей Толы «в карете», а Хитун пишет, что Тубанов и его помощник Кучутов, тоже бурят, бывший иркутский дантист, умчались из Ногон-Сумэ на конях, с двух сторон «поддерживая своими могучими руками за талию» висевшего между ними в воздухе Богдо-гэгэна.
Во всех этих рассказах фигурируют всадники и лошади, которым совершенно неоткуда было взяться вблизи Зеленого дворца – спуститься с Богдо-ула верхом невозможно. Лишь Князев излагает ход событий более реалистично: «Вечером 1 февраля Тубанов взобрался на Богдо-ул. С соблюдением всех предосторожностей он вошел в связь с дворцом Богдо-гэгэна, потому что порученное ему дело требовало не только известной смелости и ловкости, но и должно было окончиться совершенно благополучно для здоровья Богдо и всего его окружения. Поздно вечером 2 февраля, по заранее согласованному с обитателями дворца плану, тибетцы набросились на батальон гаминов, охранявших священный город. Воспользовавшись замешательством врагов, подали на карьере лошадей ко дворцу, посадили на них Богдо и его семью и ускакали».
Пожалуй, лучше всех был осведомлен Першин, ставший случайным свидетелем похищения. Из его рассказа следует, что дело происходило не вечером, а около четырех часов дня, когда было еще совсем светло. Приблизительно в это время он с биноклем встал у окна своей квартиры и начал разглядывать обращенный к городу склон Богдо-ула. Здание давно обанкротившегося Русско-Монгольского банка, чьим директором продолжал считаться Першин, располагалось на высокой террасе над поймой Толы, отсюда хорошо просматривалась вся гора от подножия до гребня. К востоку от города слышались пушечные выстрелы, и Першин, видимо, пытался понять, что там происходит.
Внезапно в поле обзора попали какие-то движущиеся черные точки на склоне. Они хорошо заметны были на снеговых прогалах, где нет леса. В первое мгновение Першин подумал, что это охранники-монголы, даже теперь обходившие дозорами заповедную гору, но тут же до него донеслась ружейная пальба. Стрельбу с Мадачанских высот он слышать не мог, они находились примерно в пяти верстах от его дома, и звук выстрелов не долетал сюда в разреженном морозном воздухе.
Позже ему удалось выяснить подробности. Оказалось, что еще с ночи большая часть спешенных всадников Тубанова укрылась в лесу на Богдо-уле, а другая, меньшая, в которую, вероятно, входили тибетцы из ургинской колонии, открыто подошла к резиденции со стороны города. Все члены этой группы были одеты в монашеское платье, но имели спрятанные под одеждой обрезы или карабины. Одновременно по условному знаку свитские ламы обезоружили и связали часовых внутренней стражи. Часть похитителей в упор открыла стрельбу по караульным, другие вбежали в покои, где находились хутухта с женой, уже готовые к побегу – «тепло одетые», подхватили их и понесли к берегу. Остальные заперлись во дворце, чтобы прикрыть отход. Едва их товарищи с драгоценной ношей появились на льду Толы, тибетцы, прятавшиеся на Богдо-уле, образовали на склоне живую цепочку (этот маневр и наблюдал в бинокль Першин). Передавая Богдо-гэгэна и Дондогдулам с рук на руки, они мгновенно подняли их на вершину и еще до темноты доставили в Маньчжушри-хийд. Там божественную чету принял под охрану князь Лувсан-Цэвен со своими цириками.
О том, что происходило внутри резиденции, Першин не сообщает, но, видимо, те из тубутов, что находились во дворце, начали стрелять из окон, а люди Тубанова – со стороны Толы. Началась паника, о погоне китайцы даже не помышляли, полагая, что ко дворцу прорвался авангард Унгерна, и сам он уже близко. Более того, оставшимся на месте участникам операции в суматохе тоже удалось бежать и добраться до так называемого Западного храма в двух верстах от Ногон-Сумэ.
Унгерн ждал известий от Тубанова в районе только что взятых китайских позиций на Мадачанском дефиле. Отсюда видна была Урга, он смотрел на нее с высоты, и в это время, если верить картинному описанию Макеева, подскакавший «на взмыленном коне» тибетец подал ему записку от Тубанова. Она состояла из единственной фразы: «Я выхватил Богдо-гэгэна из дворца и унес на Богдо-ул». Прочитав ее, Унгерн «загорелся от радости» и крикнул: «Теперь Урга наша!». Известие мгновенно облетело вce части, по горе покатилось: «Ура-а!».
3
В доме Першина, примыкавшем к зданию банка, и в самом банке проживало около двух десятков беженцев из России, среди них генерал, полковник и несколько офицеров – «публика тертая». Правда, из оружия имелись только револьверы, и то не у всех. Остальные вооружились дубинками. С началом штурма заперли и забаррикадировали дровами ворота, заложили на болты ставни и учредили во дворе круглосуточное дежурство. В такие же крепости превратилось большинство русских усадеб южного квартала и Консульского поселка. Колчаковцы, жившие у Першина и в домах других ургинских старожилов, с радостью готовились встретить Унгерна, хотя почти ничего не знали о нем. Беженцы из Забайкалья лучше представляли себе этого человека, но сейчас их сильнее пугала китайская солдатня. Памятуя о ноябрьском погроме, ожидали реквизиций и грабежей. Надежда была на офицеров, которые должны поддерживать дисциплину в собственных интересах.
Тем временем Унгерн совершил непростительную для полководца ошибку: он не воспользовался успехом и бездействовал весь следующий день, ибо ламы объявили его несчастливым. «Порыв не терпит перерыва»; напомнив эту классическую заповедь военной науки, Торновский сам же признает, что иррациональное решение Унгерна ничего не предпринимать до вечера 3 февраля оказалось наиболее правильным: китайское командование истолковало его бездействие как затишье перед бурей. Костры, вновь разложенные вокруг столицы, свидетельствовали о прибывших к нему подкреплениях, Мадачанские высоты пали, а похищение Богдо-гэгэна лишало последней надежды на раскол казацко-монгольской коалиции. На ночном совещании у Чэнь И все его участники высказались в том смысле, что дальнейшая оборона столицы невозможна, надо срочно начинать эвакуацию.
В первых числах февраля монголы и китайцы отмечают Цаган-Сар – Новый год по лунному календарю. Обычно в эти дни по всей Урге шла оживленная предпраздничная торговля, закупали припасы к столу, «ставя ребром последний грош», но сейчас вместо веселой сутолоки царило зловещее безлюдье. Лавки на Захадыре и на главной китайской торговой улице, которую русские называли Широкой, были закрыты. Ламы затаились в монастырях, горожане сидели по домам. Запрет на богослужения не был снят, из храмов не доносилось ни звука. Солдаты, всегда наводнявшие центральные улицы, пропали, к вечеру в Урге воцарилась удивительная тишина.
Незадолго до полуночи 3 февраля Резухин с ударными пятью или шестью сотнями и всей артиллерией двинулся к Маймачену. Чтобы опять, как три месяца назад, не заплутать в темноте, направление держали по громадным кострам. Разведчики с вечера развели их в створе Богдо-ула и радиостанции на горе Мафуска. Копыта коней и колеса орудий обмотали войлоком, колонна «бесшумно соскользнула» с сопок над Толой, перешла реку вблизи от впадения в нее речки Улятуйки и вступила на сплошное поле льда. Лошадей вели в поводу. Падая, они калечились и не могли подняться, рядом оставались лежать раздавленные пушками люди. Наконец ледяная полоса кончилась, наступающие карьером понеслись к сопке, где находились Белые казармы – комплекс построек, обнесенных стеной с двумя воротами. Северные, как тараном, проломили «принесенным откуда-то бревном», в окна полетели гранаты. Нападения никто не ожидал, в зданиях «поднялся страшный вой, визг, беспорядочная стрельба». Гамины выскакивали в одном белье и, бросая оружие, через южные ворота убегали в соседний Маймачен.
К утру там скопилось до трех тысяч солдат из разных частей, в том числе отошедшие сюда с Мадачана и из Белых казарм, но единого штаба не было, офицеры не смогли организовать оборону. На рассвете, когда по приказу Резухина пушечным выстрелом выбили городские ворота и его всадники устремились в город, отдельные группы китайцев, укрепившись в домах и усадьбах, сражались каждая сама по себе. На узких улочках действовать в конном строю было нельзя, сотни спешились и втянулись в кровопролитные уличные бои. В них Резухин потерял больше людей, чем при взятии Мадачанского дефиле. Пока он пробивался к центру города, с плоских крыш в казаков сыпались пули, камни и стрелы. Местные жители стреляли даже из луков.
Особенно упорно защищались гамины, засевшие в здании штаба Го Сунлина. Они поливали пулеметным огнем прилегающие улицы, но попыток вырваться из окружения не предпринимали, надеясь, видимо, что при заметной нехватке у противника патронов можно будет выдержать осаду, пока не подойдет помощь из Урги.
Там, однако, никто о них не думал, все заботились о собственном спасении. Китайские генералы покинули город, бросив на произвол судьбы еще не сложившую оружия армию. Торновский имел все основания назвать их действия «преступными». В ночь на 4 февраля Чэнь И со штатом своих чиновников и Чу Лицзян со штабными офицерами на одиннадцати автомобилях выехали по Кяхтинскому тракту на север, к русской границе. В темноте все машины благополучно миновали опасную зону, где их могли перехватить унгерновцы. Го Сунлин рано утром выехал в том же направлении, а большая часть его трехтысячного конного корпуса ушла на восток, к Хайлару. Связываться с отборной китайской кавалерией Унгерн не стал. Эти всадники без единого выстрела проследовали мимо потонувшего в дыму пожарищ Маймачена, где умирали их товарищи, и двинулись прочь от столицы.
Как в средневековье, последним прибежищем китайских солдат и ополченцев стали кумирни, среди них – главный маймаченский храм, посвященный Гэсэру. Это древнее монголо-тибетское божество считалось покровителем ханьцев, живших в застенном Китае; под его защиту собрались сотни людей, но молитвы не помогли, двери были взломаны. Унгерн с его суеверным уважением ко всем восточным культам приказал щадить святыни любой религии, однако в горячке боя приказ исполнялся не всегда. Все храмы были деревянные, казаки забрасывали их гранатами или поджигали. Помощь из Урги так и не пришла, зато монгольские отряды тоже вступили в Маймачен. Уже после полудня сумели поджечь здание штаба Го Сунлина, его защитники погибли в огне.
На северной окраине рота китайцев сдалась без боя. Они стояли на коленях, прося пощады. «К ним, – пишет Аноним, – подскакали чахары и монголы, спешились и, как-то приседая, стали кружиться около. Наметив себе жертву, выхватывали ее из рядов, оглаживая, отводили в сторону, и, пока не понимающий, в чем дело, китаец заискивающе улыбался, монголы быстрым движением выхватывали свои острые, как бритва, ножи и перерезали пленным горло. Моментально вся рота оказалась вырезанной».
Резня сопровождалась вакханалией мародерства. Чахары бросились грабить дома и лавки, казаки устремились к конторам двух банков, Купеческого и Пограничного. Замки хранилищ были сбиты; вскоре улица покрылась металлическими деньгами, ассигнации «носились в воздухе». Их брали в последнюю очередь. Хватали серебряные китайские доллары и весовое серебро. Навести порядок на этом важнейшем участке Унгерну удалось не сразу. Он говорил, что захватил здесь на двести тысяч рублей серебра, другие называли цифры во много раз большие. Среди банковских трофеев оказалось и золото в количестве четырех пудов. Часть сокровищ успели разграбить, и, разумеется, немало утаили, несмотря на приказ под страхом смерти вернуть все похищенное из банковских кладовых. Войсковой старшина Архипов сумел припрятать двадцать фунтов золота, за что позднее был повешен Унгерном.
В ночь, когда Резухин вошел в Маймачен, сотни Хоботова и Парыгина появились на восточных окраинах Урги, захватили тюрьму и освободили заключенных. Расположенный рядом Консульский поселок заняли без боя, сопротивление встретили только у оврага, где находилось православное кладбище и монументальное здание золотопромышленной компании «Монголор», оно же – российское дипломатическое агентство (по привычке его называли консульством). До начала осады в нем проживала ургинская «аристократия», то есть три барона с семействами – Витте, председатель правления «Монголора» Фитингоф и бывший оренбургский вице-губернатор Тизенгаузен, а также оставшиеся не у дел русские консулы и застрявшие в Урге колчаковские генералы, но в страхе перед погромами сюда переселилось еще несколько семей и десятки одиночек. Здание было набито битком, один из жильцов сравнил его с «сельдяной бочкой».
«Первым домом, захваченным солдатами Унгерна, – вспоминал Волков, живший здесь как зять Витте, – был наш дом, бывшее консульство, и я до сих пор не могу забыть, как оборванные полузамерзшие казаки, разбив прикладами окна, под пулеметным и ружейным огнем засевших во рву за домом китайцев ворвались в него». На радостях их растащили по комнатам, казаков стали угощать водкой, офицеров – «наконьячивать», и гамины внезапной атакой едва не отбили здание.
Утром 4 февраля Першина разбудил квартировавший у него доктор Рябухин: «Идите скорее! Китайцы отступают!» Все обитатели дома уже собрались во дворе. С крыльца видно было, что «вся площадь напротив Да-хурэ, и весь склон горы возле монастыря Гандан, и все пространство между этими монастырями» усеяно отступающими в беспорядке китайскими войсками. Кто-то сбегал за биноклем, который начали передавать из рук в руки. В бинокль Першин увидел: «Многие солдаты бежали без теплой одежды и обуви, без котомок. Люди, лошади, телеги – все было перемешано. Среди этого беспорядочного месива изредка виднелись обозы с оружием и провиантом». Громадная колонна мимо Гандана выходила на Кяхтинский тракт и бесконечным потоком тянулась на север.
«Страшно было смотреть на нее, – вспоминал другой свидетель, – и не верилось, что горсточка наступающих смогла обратить в бегство эти двигавшиеся сплошной черной стеной тысячи вооруженных людей». Они беспрепятственно покидали город, лишь на следующий день Унгерн выслал в погоню Резухина, приказав смять колонну на марше, но китайцы не подпустили к себе его конницу. Руководил этим боем полковник Лян Шу – единственный из высших офицеров, кто не сбежал вместе с генералами и не потерял голову от страха.
Ближе к полудню толпы отступающих поредели, а затем сошли на нет, оставив за собой покрытые брошенной амуницией улицы. Город вновь обезлюдел. В доме у Першина с нетерпением ждали известий из Консульского поселка, но на улицу выходить боялись. Наконец около трех часов дня заметили группу всадников, неторопливо приближавшихся со стороны Половинки. По коням и посадке видно было, что это казаки. Стоя у ворот, першинские постояльцы отсалютовали им дубинками.
Унгерн еще находился в Маймачене. Здесь ему достались громадные трофеи – полсотни пулеметов, свыше четырех тысяч винтовок разных систем, гарнизонные склады с экипировкой, медикаментами, фуражом, продовольствием. Муки, правда, было немного, и то преимущественно гороховая. Надежда пополнить запас патронов тоже не оправдалась, но неделей позже удалось захватить караван с «огнеприпасами», который с востока шел к Урге, не зная, что она уже пала.
Теперь погромов ждали китайские купцы и просили о заступничестве русских, которые парой дней раньше обращались к ним с аналогичными просьбами. Многие служащие торговых фирм предпочли уйти с войсками или, по крайней мере, эвакуировать семьи. Одному из них, своему доброму знакомому, Першин отдал лошадь с телегой.
Старожилы русских кварталов радовались, что дело обошлось без эксцессов, но особого энтузиазма не проявляли. Семенова тут никогда не любили, в его противостоянии с Колчаком держали сторону последнего и опасались, что барон этого не простит. Напротив, недавним беженцам из России терять было нечего, реквизиций они не боялись, никаких грехов за собой не знали и с восторгом готовились встретить победителей.
Для монголов победа Унгерна была их собственной победой; через несколько часов после ухода китайцев город начал оживать, к монастырям потянулись сотни людей в праздничных одеждах. В Цогчине началось богослужение. «Перед заходом солнца, – пишет Першин, – из храмов Да-хурэ послышались густые звуки гигантских богослужебных труб, но теперь эти аккорды не нагоняли уныние, а возвещали о радости и торжестве жизни. После двухмесячного вынужденного молчания трели “башкуров” – храмовых кларнетов – в морозном воздухе звучали громко и победно». С